Последние темы
Вход
Поиск
Навигация
ПРАВИЛА ФОРУМА---------------
ИСТОРИЯ БЕРДИЧЕВА
КНИГА ОТЗЫВОВ
ПОИСК ЛЮДЕЙ
ВСЁ О БЕРДИЧЕВЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ПРОФИЛЬ
ВОПРОСЫ
Реклама
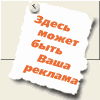
Социальные закладки



Поместите адрес форума БЕРДИЧЕВЛЯНЕ ЗА РУБЕЖОМ на вашем сайте социальных закладок (social bookmarking)
Что читаешь, Бердичевлянин ?
+6
Borys
Kim
Алексей
Sem.V.
Михаил-52
Lubov Krepis
Участников: 10
Страница 1 из 10
Страница 1 из 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 Что читаешь, Бердичевлянин ?
Что читаешь, Бердичевлянин ?
Михаил ЮДОВСКИЙ
ЖАРКОЕ БАБЫ ФИРЫ
Рисунки автора
1
Ни в одном другом районе Киева дворы - вернее, дворики - не играли столь важную роль, как на Подоле. В них не было каменного снобизма печерских дворов, где люди при встрече едва здоровались друг с другом, или панельного равнодушия новостроек, где человеческое общение прижималось лавочками к разрозненным подъездам. Подольские дворики были уютными, шумными, пыльными и бесконечно живыми. Среди них имелись свои аристократы, расположившиеся между Почтовой и Контрактовой (на ту пору Красной) площадью; от Контрактовой площади до Нижнего Вала разместился средний класс коммунальных квартир с туалетом и ванной; а уж за Нижним Валом начинался настояший Подол, непрезентабельный, чумазый и веселый. Здесь не было коммуналок, квартирки были маленькими, а так называемые удобства находились во дворе. Удобства эти с их неистребимой вонью и вечно шмыгающими крысами были до того неудобны, что люди предпочитали делать свои дела в ведро, бегом выносить его в отхожее место и бегом же возвращаться обратно. По-человечески, особенно с точки зрения нынешних времен, это было унизительно, но в то время люди были менее взыскательны, зато более жизнерадостны и простодушны.
В одном из таких обычных двориков на Константиновской улице проживала самая обыкновенная семья с ничем не примечательной фамилией Вайнштейн. Впрочем, старейшая в семействе, Эсфирь Ароновна, которую весь двор звал бабой Фирой, носила фамилию Гольц, о чем напоминала по три раза на дню и категорически просила не путать ее со "всякими Вайнштейнами". В этом проявлялось непреклонное отношение бабы Фиры к зятю Нёме, мужу ее единственной дочери, которого она в минуты нежности называла "наш адиёт", а в остальное время по-разному.
Бог сотворил бабу Фиру худенькой и миниатюрной, наделив ее при этом зычным, как иерихонская труба, голосом и бешенным, как буря в пустыне, напором. Она с удовольствием выслушивала чужое мнение, чтобы в следующую же секунду оставить от собеседника воспоминание о мокром месте. Особую щедрость проявляла она к своему зятю, о котором сообщала всем подряд: "Нёма у нас обойщик по профессии и поц по призванию".
- Мама, - нервным басом пенял ей огромный, но добродушный Нёма, - что вы меня перед людьми позорите?
- Я его позорю! - всплеснув руками, восклицала баба Фира. - Этот человек думает, что его можно еще как-то опозорить! Нёмочка, если б я пошла в райсобес и сказала, кто у меня зять, мне бы тут же дали путевку в санаторий.
- Знаете что, мама, - вздыхал Нёма, - я таки от вас устал. Вы с вашим характером самого Господа Бога в Судный День переспорите.
- Нёма, ты адиёт, - отвечала баба Фира. - Что вдруг Он будет со мной спорить? Он таки, наверное, умней, чем ты.
2
Бабыфирина любовь к зятю произошла с первого взгляда, когда дочь ее Софа привела будущего мужа в дом.
- Софа, - сказала баба Фира, - я не спрашиваю, где твои мозги. Тут ты пошла в своего цедрейтер папу, земля ему пухом. Но где твои глаза? Твой отец был тот еще умник, но -таки красавец. Там было на что посмотреть и за что подержаться. И, имея такого папу, ты приводишь домой этот нахес с большой дороги? Что это за шлемазл?
- Это Нёма, мамочка, - пропищала Софа.
- Я так и думала, - горестно кивнула баба Фира. - Поздравьте меня, люди, - это Нёма! Других сокровищ в Киеве не осталось. Всех приличных людей расхватали, а нам достался Нёма.
- Мама, вы ж меня совсем не знаете, - обиженно пробасил Нёма.
- Так я нивроку жила и радовалась, что не знаю. А теперь я -таки вижу, что ее покойный отец был умнее меня, раз не дожил до такого счастья. И не надо мне мамкать. Еще раз скажешь мне до свадьбы "мама", и я устрою такой гвалт, что весь Подол сбежится.
Впрочем, когда у Софы с Нёмой родился сын, баба Фира простила дочери ее выбор. Новорожденного внука Женю она обожала, баловала, как могла, и ласково звала Еничкой.
- Сейчас Еничка будет мыть ручки... сейчас Еничка будет кушать... сейчас Еничка сходит на горшочек...
- Мама, перестаньте над ним мурлыкать, - недовольно басил Нёма. - Он же мальчик, из него же должен расти мужчина!
- Из тебя уже выросло кое-что, - огрызалась баба Фира. - Моим врагам таких мужчин. Иди вынеси еничкин горшок.
Нёма вздыхал, покорно брал горшок и молча выходил с ним во двор. Двор был невелик, сжат полукольцом двухэтажных развалюх, посреди него росла высокая липа, под нею изогнулся водопроводный кран, из которого жильцы носили домой воду, а в тени липы разместился столик, за которым по обыкновению сидели пожилой сапожник Лева Кац и грузчик Вася Диденко, еще трезвый, но уже предвкушающий.
- Шо, Нёмка, дает теща прыкурыть? - сочувственно спрашивал Вася.
Нёма лишь безнадежно махал рукой, а из окна второго этажа высовывалась растрепаная голова бабы Фиры.
- Я -таки сейчас всем дам прикурить! - сообщала голова. - Сейчас тут всем будет мало места! Нёма, что ты застыл с этим горшком? Забыл, куда с ним гулять? А ты, Вася, не морочь ему голову и не делай мне инфаркт.
- Та я шо ж, баба Фира, - смущался Вася, - я ж так, по-соседски...
- Ты ему еще налей по-соседски, - ядовито замечала баба Фира, - а то Нёме скучно с отстатками мозгов.
- Фира, - миролюбиво вмешивался пожилой сапожник Кац, - что ты чипляешься к людям, как нищий с Межигорской улицы? Дай им жить спокойно.
- Лева, если ты сапожник, так стучи по каблукам, а не по моим нервам, - отрезала баба Фира. - Нёма, ты еще долго будешь там стоять с этим горшком? Что ты в нем такого интересного нашел, что не можешь с ним расстаться?
Нёма вздыхал и отправлялся с горшком по назначению, а Вася крутил головой и говорил:
- Не, хорошая вы женщина, баба Фира, а токо ж повэзло мне, шо нэ я ваш зять.
- Ты -таки прав, Вася, - кивала баба Фира. - Тебе -таки крупно повезло. А то б ты у меня уже имел бледный вид.
Вася был в чем-то похож на Нёму - такой же огромный и, в общем-то, незлобивый. Пять дней в неделю он был мил и приветлив со всеми и заискивающе нежен со своей женой Раисой. Но в пятницу с последними крохами рабочего дня что-то в нем начинало свербить, и он, распив с коллегами-грузчиками парочку законных пол-литровок, возвращался домой, и тогда тихий дворик оглашался звериным ревом и бешенной руганью. Вася с налитыми кровью глазами и какой-нибудь тяжестью в руках гонялся за женой Раисой, а та, истошно вопя, бегала от него кругами.
- Падла, подстилка, деньги давай! - ревел Вася.
- Ой, люди, ой, спасите, убивают! - причитала на бегу Раиса.
Соседи, привыкшие к этим сценам, неторопливо высовывались из окон.
- Вася, что ты за ней носишься, как петух за курицей, - с упреком замечал сапожник Кац. - Вам непремено нужно устраивать эти игры на публике?
- Молчыте, Лев Исаковыч, нэ злите меня, - пыхтел Вася, - а то я ей так дам, шо вам всем стыдно станэ.
Во дворике, как и на всем Подоле, русские, украинцы и евреи на удивление мирно уживались друг с другом, и Лева мог урезонивать Васю без риска услышать в ответ кое-что интересное про свою морду. Но утихомирить разбушевавшегося грузчика умела лишь баба Фира. Выждав необходимую паузу, она, словно долгожданная прима, высовывалась наконец из окна и роняла своим зычным голосом:
- Рая, у тебя совесть есть? Почему твой муж должен за тобой гоняться? Если ты его так измотаешь с вечера, что из него ночью будет за мужчина?
- От умная женщина! - задыхаясь, восторгался Вася. - Слышишь, гадюка, шо тебе баба Фира говорит?
- А ты молчи, цедрейтер коп! - напускалась на него баба Фира. - Совсем стыд потерял! Нет, мой покойный Зяма тоже был не ангел, но если б он взял моду каждые выходные устраивать такие скачки, так он бы уже летел отсюда до Куреневки.
Наутро Вася с виноватым видом появлялся в квартире Вайнштейнов-Гольцев.
- Баба Фира, - потупив глаза, бормотал он, - вам почыныты ничего не надо?
- Васенька, ну что за вопросы, - отвечала баба Фира. - Ты что, забыл какое сокровище здесь живет? Нёма умеет только обивать чужие двери, а дома руки у него начинают вдруг расти из другого места, и он не может забить ими гвоздь.
- Мама, прекратите уже эти разговоры, - раздавался из комнаты голос Нёмы. - Имею я в субботу право на законный отдых? Сам Господь Бог...
- Он вдруг о Боге вспомнил! - качала головой баба Фира. - Нёма, почему ты вспоминаешь о Боге, только когда в субботу нужно что-то сделать? Если бы люди поступали по-божески остальные шесть дней в неделю, мы бы -таки уже имели немножечко другой мир.
Нёма мычал из комнаты, что с него и этого мира хватит, а Вася тем временем чинил замок или проводку, или привинчивал дверцу буфета - руки у него были золотые, и он охотно и бескорыстно помогал соседям по хозяйству. Вернее, почти бескорыстно.
- Баба Фира... - начинал он, но та немедленно перебивала его:
- Учти, Вася - только румку.
- Баба Фира, - Вася корчил жалобную физиономию, - вы ж посмотрите на меня. Мэни ж та рюмка - шо дуля горобцю.
- А вечером мы снова будем иметь концерт?
- От слово даю - нияких концертов. Шоб мэни здохнуть.
- Ох, Вася, - вздыхала баба Фира, - ты -таки играешь на моем добром сердце.
Она доставала из буфета бутылку водки и стакан, наполняла его наполовину и протягивала Васе:
- Всё. Больше не проси, не дам.
- Так я шо... я... спасибо.
Вася выпивал свою опохмелочную порцию и спешил на помощь к другим соседям, а час спустя заявлялась его жена Раиса и скороговоркою пеняла:
- Баба Фира, вы шо, с ума сдурели? Вы ж знаете, шо Васе пить нельзя. С какого перепугу вы ему водкы налили?
- Я, Раечка, с ума не сдурела, - невозмутимо отвечала баба Фира. - Что я, Васю не знаю? Он же всё равно найдет, где выпить. Пусть хотя бы пьет в приличном месте.
- Он же ж казыться от водкы, - жалобно говорила Раиса.
- Тебе еще нивроку повезло, - вздыхала баба Фира. - Наш Нёма казыться без всякой водки. Как думаешь, Раечка, может, Нёме нужно дать как следует напиться, чтоб ему клин клином вышибло?
3
Сейчас удивительно вспоминать о том, с каким теплом и участием относились друг к другу эти очень разные и совсем не богатые люди, сведенные судьбой в одном подольском дворике, затерявшемся посреди огромного города и еще более огромной вселенной. Вася за рюмку водки - да и без нее тоже - чинил соседям замки, проводку и мебель, сапожник Лева Кац бесплатно ремонтировал их детям обувь, Раиса угощала всех варениками с творогом и вишнями, а когда баба Фира готовила жаркое, весь двор вытягивал носы в сторону второго этажа и как бы ненароком наведывался в гости. Угощать друг друга, собираться у кого-нибудь вместе было неписанной, но священной традицией.
- Ой, баба Фира, - щебетала хорошенькая, незамужняя учительница музыки Кира Самойловна Цейтлина, постучавшись к соседям в дверь, и смущенно переминаясь на пороге, - вы извините, я на одну секундочку. У вас спичек не будет? Я как раз собиралась варить суп...
- Кира, что ты мне рассказываешь бубес майсес про какой-то суп, - усмехалась баба Фира. - Слава Богу, весь Подол знает, что ты за повар. Проходи в комнату, мы сейчас будем обедать.
- Нет, ну что вы, - пунцовела Кира Самойловна. - Неудобно как-то...
- Кира, не строй нам из себя Индиру Ганди. Сделай вид, что ты помыла руки и садись уже за стол.
- Но...
- Кира, нам неинтересно тебя ждать. Еничке давно пора кушать, поимей совесть к ребенку.
Кира якобы с неохотой сдавалась и позволяла усадить себя за стол, за которым уже сидели Софа, Нёма и маленький Еничка, а баба Фира черпаком раскладывала по тарелкам жаркое. Аромат тушеного мяса заполнял комнату и просачивался сквозь неплотно закрытое окно, сводя с ума весь дворик.
- И как вы только готовите такое чудо, - мурлыкала с набитым ртом учительница музыки.
- Мясо, лук, соль, перец и немного воды, - с удовольствием объясняла баба Фира.
- И всё?
- А что тебе еще надо? У Бога -таки вообще ничего не было кроме воды, когда Он создавал этот мир.
- Оно и видно, - буркал Нёма, отправляя в рот несколько кусков мяса.
- Да, но Он -таки не мог предвидеть, что вся Его вода стукнет в одну-единственную голову, - косилась на зятя баба Фира. - Не обращай на него внимания, Кирочка. Ты же видишь - когда Бог раздавал мозги, Нёма был в командировке.
- Мама, - раскрывала рот обычно молчаливая Софа, - перестаньте уже терзать Нёму при посторонних.
- Софа! - Баба Фира багровела и повышала голос. - Ты думай иногда, что говоришь! В нашем дворе не может быть посторонних. Тут слишком хорошая слышимость. Кирочка, я тебя умоляю, возьми еще жаркого.
- Нет-нет, баба Фира, что вы, - в свою очередь заливалась краской Кира. - Я... я не могу, мне... Мне пора. Спасибо вам огромное.
И она поспешно удалялась.
- Софа, - загробным голосом произносила баба Фира, - твой цедрейтер папа, земля ему пухом, тоже умел ляпнуть что-то особенно к месту, но ты -таки его превзошла. Он бы тобой гордился.
- Перестань, мама, - нервно отмахивалась Софа. - Подумаешь, учительница музыки...
Присутствие Киры Самойловны выводило Софу из себя. Она была уверена, что незамужняя соседка имеет виды на ее Нёму, и всякий раз норовила обронить какое-нибудь едкое замечание в ее адрес.
- Софонька, детонька, - сочувственно вздыхала баба Фира, - зачем эти нервы? Ну посмотри ж ты на свое сокровище разутыми глазами - кому оно еще сдалось кроме такой дуры, как ты?
- Я вас тоже люблю, мама, - басил Нёма в ответ.
- Тебе сказать, где я видела твою любовь и какого цвета на ней была обувь? - Баба Фира поворачивалась к зятю.
- Скажите, - с готовностью отзывался тот.
- Чтоб моим врагам, - поднимала глаза к потолку баба Фира, - досталось такое...
- Да? - с улыбкой глядел на нее Нёма. - Мама, ну что ж вы замолчали на самом интересном месте?
Баба Фира бросала на зятя убийственный взгляд и, прошептав "Готеню зисер", выходила во двор.
4
Как-то раз, после одного из визитов Киры Самойловны, которая обыкновенную яичницу умела приготовить так, что приходилось вызывать пожарную команду, баба Фира, закрыв за гостьей дверь, с таинственным видом вернулась в комнату, поглядела на Еничку, затем на дочь с зятем и несколько раз удрученно покачала головой.
- Что вы так смотрите, мама? - лениво поинтересовался Нёма. - Вам неймется сделать нам важное сообщение?
- Хочется вас спросить, - полным сарказма голосом произнесла баба Фира, - кто-нибудь в этом доме заметил, что Еничке уже исполнилось пять лет?
- И это вся ваша сногосшибательная новость, мама?
- Помолчи, адиёт! Вы мне лучше объясните, почему ребенок до сих пор не играет на музыке? Почему у него нет инструмента?
- А с какой такой радости у него должен быть инструмент?
- Софа, - строго молвила баба Фира, - закрой своему сокровищу рот. У меня -таки уши не железные. Когда у еврейского ребенка нет инструмента, из него вырастает бандит. - Еничка, хаес, - ласково обратилась она к внуку, - ты хочешь играть на пианино?
- Хочу, - ответил Еничка.
- Вот видите, ребенок хочет! - ликующе провозгласила баба Фира.
- Мама, вы его не так спрашиваете, - вмешался Нёма. - Еня, ты хочешь вырасти бандитом?
- Хочу, - ответил Еня.
- Вот видите, мама, - усмехнулся Нёма, - нормальный еврейский ребенок, он хочет всего и сразу. Еня, ты хочешь ремня?
Еня подумал и заплакал.
- Ты -таки поц, Нёма, - заявила баба Фира. - Что ты делаешь ребенку нервы? Тебе жалко купить ему пару клавиш?
- А оно нам надо? Вам что, мама, надоело мирно жить с соседями?
- А что соседи?
- И вы еще говорите, что я поц! Они -таки вам скажут спасибо и за Еню, и за пианино! Холера занесла сюда эту Цейтлину!
- Софа, - повернулась к дочери баба Фира, - скажи что-нибудь своему йолду.
- Мама, - устало ответила та, - оставь Нёму в покое!
- Софочка, если твоя мама оставит меня в покое, ей станет кисло жить на свете.
- Ты слышишь, как он разговаривает с твоей матерью?
- Нёма, оставь в покое маму!
- Так я ее должен оставить в покое или она меня?
- Меня оставьте в покое! Оба! У меня уже сил никаких от вас нет!
Софа не выдержала и расплакалась. Маленький Еня с интересом посмотрел на маму и на всякий случай завыл по-новой.
- Вот видишь, Нёма, - сказала баба Фира, - до чего ты своей скупостью довел всю семью.
- Я довел?!
- Не начинай опять. Так ты купишь ребенку пианино?
- Хоть целый оркестр!
- Хочу оркестр, - сказал Еня, перестав выть.
- Еня, я тебе сейчас оторву уши. Хочешь, чтоб я тебе оторвал уши?
Еня снова сморщил физионимию, готовясь зареветь.
- Тебе обязательно надо доводить ребенка до слез? - гневно поинтересовалась баба Фира.
- Мама, - проговорил Нёма, сдаваясь, - вы на секундочку представляете, что скажут соседи?
- Соседи, - уверенно заявила баба Фира, - скажут спасибо, что мы не купили Еничке трубу.
Она нежно прижала к себе внука и поцеловала его в лоб. Еничка посмотрел на бабушку, затем на родителей и сказал:
- Хочу трубу.
5
Еничке купили пианино, и относительно мирный доселе дворик превратился в сумасшедший дом на открытом воздухе. Уже в девять часов утра звучал иерихонский глас бабы Фиры:
- Еничка, пора играть музыку!
Минут десять после этого слышны были уговоры, визги, угрозы, затем раздавался еничкин рев, и наконец дворик оглашали раскаты гамм, сопровождаемые комментариями бабы Фиры:
- Еничка, тыкать пальцем надо плавно и с чувством!.. Нет, у этого ребенка -таки есть талант!.. Не смей плевать на клавиши, мешигинер коп!.. Еничка, чтоб ты был здоров, я тебя сейчас убью!.. Ах ты умничка, ах ты хаес... Сделай так, чтоб мы не краснели вечером перед Кирой Самойловной.
Кира Самойловна лично взялась обучать Еничку. Денег за уроки она не брала, но всякий раз после занятия оставалась ужинать.
- У мальчика абсолютный слух, - говорила она, потупив глаза и пережевывая бабыфирино жаркое.
- Если б у него был абсолютный слух, - отзывался Нёма, - он бы одной рукой играл, а другой затыкал уши.
- Нёма, тебе обязательно нужно вставить какое-нибудь умное слово, чтоб все видели, какой ты йолд? - рычала баба Фира. - Ты слышишь, что говорит Кира Самойловна?
- Я-то слышу, - отвечал Нёма, - У меня-то как раз слух в порядке. Я даже слышу, чего она не говорит.
И он с усмешкой глядел на Киру Самойловну, которая немедленно заливалась краской.
Соседи по двору по-разному отреагировали на появление у Вайнштейнов-Гольцев пианино. Вася, к примеру, продолжая напиваться по пятницам, беготню за женой прекратил.
- Я так думаю, шо хватит нам во дворе одного артиста, - объяснял он.
- Як по мне, так лучше б вже ты за мною с топором гонялся, - вздыхала Раиса.
Сапожник Лева Кац из деликатности помалкивал, но когда Еничка дошел до детской пьески Моцарта, не удержавшись, заметил:
- Фира, может, твоему внуку стать артиллеристом?
- Что вдруг? - подозрительно осведомилась баба Фира.
- Эффект тот же, а ворочаться в гробу некому.
Баба Фира смерила сапожника испепеляющим взглядом.
- Ты, Лева, своим молотком себе весь слух отстучал, - заявила она и направилась к дому.
- Нёма, - сказала она, войдя в квартиру, - у меня есть для тебя интересная новость. Ты не такой адиёт, как я думала.
- Мама, а вы не заболели? - обеспокоенно спросил Нёма.
- Я таки нет. А вот наши соседи, по большой видимости, да. Ты подумай, им не нравится, как наш Еничка играет музыку.
Нёма молча развел руками.
- Не делай мне таких жестов, ты не на сцене, - строго молвила баба Фира. -Нёма, нам нужно ссориться с соседями?
- Нет, - быстро ответил Нёма.
- Но нам же нужно, чтоб мальчик имел музыкальное образование?
- Нет, - ответил Нёма еще быстрее.
- Нёма, я сказала, что ты не адиёт, и уже жалею об этом. Конечно, нам нужно, чтобы Еничка мог дальше играть свою музыку.
- Мама, - нервно проговорил Нёма, - не морочьте мне голову, говорите уже, чего вы хотите.
- Я хочу, - объяснила баба Фира, - чтоб волки получили свой нахес, а овцы сохранили свой тухес. Надо устроить соседям приятный сурприз.
- Мы им уже устроили сюрприз, когда купили Еньке пианино.
- Так они ж таки его не оценили. Вот что, Нёма, мы сделаем а гройсер йонтеф и всех на него пригласим.
- Кого это всех?
- Весь двор. Я приготовлю мое жаркое и зафарширую рыбу, Софа сделает селедку под шубой и салаты, ты купишь водку и вино...
- Мама, - сказал Нёма, - вы на минуточку представляете, во что нам обойдется это счастье?
- Нёма, не будь жлобом, - ответила баба Фира. - Ты что, имеешь плохие деньги с обитых дверей?
- Так я за них таки работаю, как лошадь!
- А теперь отдохнешь на них, как человек. Тебе что, деньги дороже соседей?
- Знаете что, мама, - вздохнул Нёма, - чтоб я так жил, как с вами соскучишься. Большое вам спасибо, что мы не купили Ене трубу. А то бы мы имели в гости весь квартал.
6
В субботний вечер маленькая квартирка Вайнштейнов-Гольцев трещала по швам, а стол ломился от яств. Гости ели салаты, рыбу, жаркое, пили вино и водку, галдели, смеялись, пели. Пели "Бублички", пели "Ло мирале", пели "Галю" и "Ямщика". Три языка сливались в один всеобщий настрой, создавая не какую-то дикую и бессмысленную какафонию, а удивительную гармонию, когда инструменты, каждый звуча на свой лад, не мешают, а помогают друг другу творить единую музыку. Сапожник Лева Кац, расчувствовавшись, предложил даже, чтобы Еничка сыграл что-нибудь на своем "комоде с клавишами", но ему тут же налили водки и успокоили. Гвоздем пира, как всегда, было бабыфирино жаркое.
- Не, баба Фира, - горланила раскрасневшаяся от вина Раиса, - вы мэни -такы должны дать рецепт.
- Мясо, лук, перец, соль и немного воды, - затверженной скороговоркой отрапортовала баба Фира.
- Ох, ягодка моя, - покачала головой Раиса, - ох, не верю я вам! Шо-то вы такое еще туда кладете.
- А гиц им паровоз я туда кладу! - разозлилась баба Фира. - Нужно готовить с любовью, тогда люди будут кушать с аппетитом.
- Не, баба Фира, вы, наверно, хочэте рецепт с собой в могылу унести, - с обидой в голосе и присущей ей тактичностью предположила Раиса.
- Рая, ты -таки дура, - покачала головой баба Фира. - Кому и что я буду в этой могиле готовить? Там, чтоб ты не сомневалась, уже не мы будем есть, а нас.
- Баба Фира, та простить вы ее, дуру, - вмешался Вася. - Нёмка, пойдем у двор, подымим.
Они вышли во двор и сели за столик под медвяно пахнущей липой, сквозь листву которой проглядывало ночное июньское небо в серебристых крапинках звезд.
- Отже ж красота, - задумчиво проговорил Вася, подкуривая папиросу. - Нёмка, а як по-еврэйски небо?
- Гимел, - подумав, ответил Нёма.
- Тоже ничего, - кивнул Вася. - Нёмка, а як ты думаешь, там, - он ткнул указательным пальцем вверх, - есть хто-нибудь?
- Николаев и Севостьянов, - вновь подумав, ответил Нёма.
- Хто?
- Космонавты. Вторую неделю на своей орбите крутятся.
- Ты шо, дурной? Я ж тебя про другое спрашиваю.
- А про другое я не знаю.
- От то ж и плохо, шо мы ничего нэ знаем. - Вася вздохнул. - Нёмка, а если там, шо бы хто нэ говорыл, есть Бог, то он якой - православный или еврэйский?
- Вообще-то, Вася, - почесал голову Нёма, - если Бог создал человека по своему образу и подобию, так Он -таки может быть и негром, и китайцем, и женщиной.
Вася, чуть не протрезвев, ошарашенно глянул на Нёму.
- Знаешь шо, Нёмка, - сказал он, - тоби пыты нэльзя. Цэ ж додуматься такое надо - Бог-китаец!
- А что, - пожал плечами Нёма, - их много.
- О! - ликующе провозгласил Вася. - То-то и оно. Нэ може Бог китайцем буты. Их много, а Он - один.
- Вася, - Нёма шмыгнул носом, - ты гений и вус ин дер курт. Дай я тебя поцелую.
Он чмокнул Васю в щеку, слегка пошатнулся и чуть не опрокинул их обоих со скамьи на пыльный асфальт.
- Дэржись, Нёмка, дэржись, - ухватил его за рукав Вася. - О, то я знову правильно сказав! Дэржаться нам всем надо друг за друга. Вместе дэржаться. Хорошо ж такы, шо мы все в одном дворе живем. Надо дэржаться.
- Да. - Нёма выпрямился и вздохнул. - Надо, Вася. А только ты мне скажи как умный человек...
- Где? - удивился Вася. - Хто?
- Ну ты же, ты. Так ты мне таки скажи как умный человек: почему в жизни надо одно, а получается совсем другое?
- Ой, Нёмка, я в этих еврэйских вопросах нэ розбыраюсь.
- Почему еврейских?
- Так то ж ваша привычка морочить себе и другим голову. Не, Нёмка, ты токо на мэнэ нэ ображайся. Це ж нормально. Нехай еврэи будуть еврэями, русские русскими, а украйинци украйинцями. Ну и будэмо жить себе вместе и нияких претэнзий. Воно нам надо? Мы ж тут на Подоле як той винегрет перемешались. А токо ж винегрет тем и хороший, шо он нэ каша. Тут огурчик, тут картопля, тут буряк. А вместе вкусно.
- Вкусно, - согласился Нёма. - Знаешь, Вася, я еще никому не говорил, даже своим... Мы же ордер получили.
- Шо? - не понял Вася. - Якый ордер? З прокуратуры? А шо вы такое натворили?
- Да не с прокуратуры. На кватртиру ордер. Квартиру нам дают, новую, на Отрадном.
- Та-ак, - Вася с шумом выпустил воздух. - От и подержались вместе. Ладно, Нёмка, поздно уже. Пойду забэру Райку и - у люльку.
- Ты что, Вася, обиделся?
- Чого мне обижаться... Спаты пора.
7
На следующее утро весь двор только и галдел о том, что Вайнштейны-Гольцы получили ордер и переезжают в "настоящие хоромы" на Отрадном. Более остальных известие это возмутило бабу Фиру.
- Нёма, - сказала она, - что это за поцоватые фокусы? Почему я должна узнавать о себе новости от соседей?
- Небось, Цейтлиной своей первой сообщил, - вставила Софа.
- Софа, - устало проговорил Нёма, - что тебе Цейтлина спать не дает?
- Это тебе она спать не дает, - огрызнулась Софа. - Ну ничего, даст Бог переедем, и ты таки ее уже не скоро увидишь.
- Я так понимаю, мое мнение в этом доме уже никого не волнует, - заметила баба Фира. - И очень напрасно. Потому что лично я никуда не еду.
- Что значит, никуда не едете? - не понял Нёма.
- Мама, ты что, с ума сошла? - вскинула брови Софа.
- Я -таки еще не сошла с ума, - торжественно объявила баба Фира. - Я -таки еще имею чем соображать. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь прожила всю свою жизнь. Почему я должна умирать в другом месте?
- Что вдруг умирать? - пожал плечами Нёма. - Живите сто лет.
- Я уже живу сто лет и больше, - вздохнула баба Фира. - С тобою, Нёма, год идет за двадцать.
- Ну, так живите себе две тысячи! Вы ж поймите, мама, это же новая квартира, с удобствами, с ванной, с туалетом...
- Что ты меня так хочешь обрадовать этим туалетом? Что я уже, такая старая, что не могу сходить в ведро?
- О Господи! - запрокинул голову Нёма. - Мама, если Бог дал вам столько ума, что вы не хотите думать о себе, так подумайте хоть о Еничке. Он что, тоже должен всю жизнь ходить в ведро? Ведь этот дом всё равно снесут.
- Только через мой труп! - заявила баба Фира.
- Мама, - простонал Нёма, - кого вы хочете напугать вашим трупом? Если им скажут снести дом, они наплюют на ваш труп и снесут его.
- Ты -таки уже плюешь на мой труп, - отчеканила баба Фира и решительно вышла из комнаты.
С тех пор она каждое утро сообщала, что никуда не едет, что нужно быть сумасшедшим на всю голову, чтобы на старости лет отправляться на край света, что этой ночью ей снился покойный Зяма и что скоро она попадет к нему.
- Мама, погодите огорчать Зяму, - уговаривал ее Нёма. - Давайте сначала переедем на новую квартиру, а там уже будем морочить друг другу голову.
Отношения с соседями по двору как-то быстро и некрасиво испортились. Те отказывались верить, что баба Фира ничего не знала о грядущем переезде, и стали поглядывать на нее искоса.
- Нет, Фира, я, конечно, рад за тебя, - сказал сапожник Кац, - но это как-то не по-соседски. Мы столько лет прожили рядом, что ты могла бы нам и сразу сообщить.
- А вы так нэ волнуйтесь, Лев Исаковыч, - ядовито встряла Раиса. - Вы тоже скоро съедете куда-нибудь. Це мы тут сто лет проторчым, а еврэям всегда счастье.
- Рая, - ответил Лева Кац, - дай тебе Бог столько еврейского счастья, сколько ты его унесешь. Нет, я понимаю: чтобы к евреям не было претензий, им нужно было родиться украинцами или русскими. Но, деточка моя, кто-то же в этом мире должен быть и евреем. И, таки поверь мне, уж лучше я, чем ты.
- Хватит вже, Лев Исаковыч, - перебил его Вася. - Одна дура ляпнула, другой сразу подхватил.
- Надо было, Вася, поменьше языком трепать, - заметила баба Фира. - А то еще не весь Подол знает про наш ордер.
- Надо було его поменьше водкою поить! - зло сверкнула глазами Раиса. - Вы ж, баба Фира, его спаивалы всё врэмъя!
- Рая, ты думай, что говоришь!
- Я знаю, шо говорю! Ну, ничого, уедете - я за нього возьмусь. Он у мэнэ забудет, як по еврэйским квартирам пьянствовать.
Баба Фира смерила Раису сначала гневным, а затем каким-то печальным взглядом, развернулась и зашагала к дому.
- Баба Фира, та нэ слухайтэ вы цю дуру! - крикнул ей вслед Вася.
- Я, Вася, не слушаю, - оглянувшись, проронила баба Фира. - В этом мире уже давно никто никого не слушает.
Между соседями окончательно, что называется, пробежала кошка. При встрече они едва здоровались друг с другом, а бабу Фиру и вовсе игнорировали. Даже Кира Цейтлина чувствовала себя обиженной и, к радости Софы, забыла дорогу к Вайнштейнам-Гольцам, питаясь в своем полуподвале бутербродами. Что ж до бабы Фиры, то та теперь почти не выходила во двор, целыми днями возилась с Еничикой, суетилась на кухне или просто лежала на диване у себя в комнате. К радости дочери и зятя она смирилась с переездом и лишь просила, чтобы ей об этом не напоминали и чтоб в доме было тихо.
- Не расстраивайтесь, мама, - говорил Нёма. - Вы же умная женщина, вы же понимаете: когда всем живется плохо, мы едины. Когда кому-то становится чуточку лучше, мы начинаем звереть.
Наконец, означенный в ордере день наступил. Накануне Нёма и Софа доупаковывали оставшиеся вещи, чтобы с утра загрузить их в машину, а баба Фира стояла у плиты и готовила огромную кастрюлю жаркого.
- Мама, - послышался из комнаты голос Нёмы, - я не понимаю, зачем вам это надо? Кого вы после всего хотите угощать вашим мясом?
- Моим мясом я таки знаю кого буду скоро угощать, - мрачно отозвалась баба Фира.
- Мама, оставьте уже ваши веселые шутки!
- А ты, Нёма, оставь меня в покое. Пакуй свои манаткес и не делай мне кирце юрн.
Поздно вечером, когда все соседи уже легли спать, баба Фира вышла во двор и поставила кастрюлю на стол под липой. Ночной ветерок тихо прошелестел листьями.
- И тебе всего доброго, - сказала баба Фира. - Ты таки останешься тут, когда все отсюда уже разъедутся.
Она прислонилась к стволу липы, несколько минут постояла молча, вздохнула и направилась домой.
Наутро приехал заказанный фургон, грузчики, привычно поругиваясь, затолкали в кузов вещи - начиная с Еничкиного пианино и кончая картонными ящиками с посудой.
- Ну, присядем на дорожку, - бодро сказал Нёма. - Начинается новая жизнь, попрощаемся со старой.
- Тебе, я вижу, очень весело прощаться, - заметила баба Фира.
- А чего грустить, мама? - вмешалась Софа. - Всё хорошо, что кончается.
- Таки я была права, что человеческая глупость - это плохо, - усмехнулась баба Фира.
- Потому что она не кончается никогда.
Всё семейство вышло во двор. Баба Фира держала за руку Еню, который, не преставая, бубнил:
- Хочу домой... хочу уехать... хочу кататься на машине...
Посреди двора, на столе, стояла кастрюля с нетронутым жарким.
- Ну, мама, кто был прав? - поинтересовался Нёма.
- Прав был Господь Бог, - ответила баба Фира, - когда на шестой день сотворил человека, на седьмой отдохнул от такого счастья, а на восьмой выгнал этот нахес из рая.
- И в чем же Он был прав?
- В том, что человек и рай не созданы друг для друга. Хотя ты, Нёмочка, таки попадешь туда после смерти.
- Почему?
- Потому что у тебя нет мозгов. Садимся уже в машину.
- А кастрюля?
- Нёма, - вздохнула баба Фира, - ты -таки точно попадешь в рай. Какое мне сейчас дело до какой-то каструли? Пусть стоит тут, как памятник. Пусть соседи делают с ней, что им нравится. Пусть распилят на части. А еще лучше - пусть поставят ее мне на могилу. Если, конечно, кто-нибудь из них когда-нибудь вспомнит, что жила на свете баба Фира и что они когда-то очень любили ее жаркое.
8
Не знаю, долго ли прожила еще баба Фира на Отрадном, бывшем хуторе, являвшем теперь, вопреки собственному названию, довольно безотрадную картину пятиэтажных хрущоб с однообразными прямоугольными дворами. Не знаю, была ли она счастлива, воспитывая внука Еню, и ссорясь с дочерью и зятем Нёмой. Не знаю, на каком кладбище ее похоронили и принес ли кто-нибудь на ее могилу кастрюлю, в которой она так мастерски готовила свое знаменитое жаркое. Тем более не знаю, попала ли она после смерти в рай или, дождавшись очереди, поселилась в каком-нибудь дворике, вроде столь любимого ею подольского двора, в компании таких же немного сумасшедших соседей. И уж совсем не знаю, были ли в этом загробном дворике удобства или людям снова приходилось справлять свои дела в ведро и выносить их в уборную. Но я знаю - или думаю, что знаю, - одно: мне почему-то кажется, что именно с переездом из старых, лишенных удобств квартир в новые безликие микрорайоны между людьми и даже целыми народами пролегла некая трещина, похожая на незаживающий рубец. Оркестр распался, гармония рассыпалась. Ибо для каждого инструмента стало важно не столько играть свою мелодию, сколько хаять чужую.
ЖАРКОЕ БАБЫ ФИРЫ
Рисунки автора
1
Ни в одном другом районе Киева дворы - вернее, дворики - не играли столь важную роль, как на Подоле. В них не было каменного снобизма печерских дворов, где люди при встрече едва здоровались друг с другом, или панельного равнодушия новостроек, где человеческое общение прижималось лавочками к разрозненным подъездам. Подольские дворики были уютными, шумными, пыльными и бесконечно живыми. Среди них имелись свои аристократы, расположившиеся между Почтовой и Контрактовой (на ту пору Красной) площадью; от Контрактовой площади до Нижнего Вала разместился средний класс коммунальных квартир с туалетом и ванной; а уж за Нижним Валом начинался настояший Подол, непрезентабельный, чумазый и веселый. Здесь не было коммуналок, квартирки были маленькими, а так называемые удобства находились во дворе. Удобства эти с их неистребимой вонью и вечно шмыгающими крысами были до того неудобны, что люди предпочитали делать свои дела в ведро, бегом выносить его в отхожее место и бегом же возвращаться обратно. По-человечески, особенно с точки зрения нынешних времен, это было унизительно, но в то время люди были менее взыскательны, зато более жизнерадостны и простодушны.
В одном из таких обычных двориков на Константиновской улице проживала самая обыкновенная семья с ничем не примечательной фамилией Вайнштейн. Впрочем, старейшая в семействе, Эсфирь Ароновна, которую весь двор звал бабой Фирой, носила фамилию Гольц, о чем напоминала по три раза на дню и категорически просила не путать ее со "всякими Вайнштейнами". В этом проявлялось непреклонное отношение бабы Фиры к зятю Нёме, мужу ее единственной дочери, которого она в минуты нежности называла "наш адиёт", а в остальное время по-разному.
Бог сотворил бабу Фиру худенькой и миниатюрной, наделив ее при этом зычным, как иерихонская труба, голосом и бешенным, как буря в пустыне, напором. Она с удовольствием выслушивала чужое мнение, чтобы в следующую же секунду оставить от собеседника воспоминание о мокром месте. Особую щедрость проявляла она к своему зятю, о котором сообщала всем подряд: "Нёма у нас обойщик по профессии и поц по призванию".
- Мама, - нервным басом пенял ей огромный, но добродушный Нёма, - что вы меня перед людьми позорите?
- Я его позорю! - всплеснув руками, восклицала баба Фира. - Этот человек думает, что его можно еще как-то опозорить! Нёмочка, если б я пошла в райсобес и сказала, кто у меня зять, мне бы тут же дали путевку в санаторий.
- Знаете что, мама, - вздыхал Нёма, - я таки от вас устал. Вы с вашим характером самого Господа Бога в Судный День переспорите.
- Нёма, ты адиёт, - отвечала баба Фира. - Что вдруг Он будет со мной спорить? Он таки, наверное, умней, чем ты.
2
Бабыфирина любовь к зятю произошла с первого взгляда, когда дочь ее Софа привела будущего мужа в дом.
- Софа, - сказала баба Фира, - я не спрашиваю, где твои мозги. Тут ты пошла в своего цедрейтер папу, земля ему пухом. Но где твои глаза? Твой отец был тот еще умник, но -таки красавец. Там было на что посмотреть и за что подержаться. И, имея такого папу, ты приводишь домой этот нахес с большой дороги? Что это за шлемазл?
- Это Нёма, мамочка, - пропищала Софа.
- Я так и думала, - горестно кивнула баба Фира. - Поздравьте меня, люди, - это Нёма! Других сокровищ в Киеве не осталось. Всех приличных людей расхватали, а нам достался Нёма.
- Мама, вы ж меня совсем не знаете, - обиженно пробасил Нёма.
- Так я нивроку жила и радовалась, что не знаю. А теперь я -таки вижу, что ее покойный отец был умнее меня, раз не дожил до такого счастья. И не надо мне мамкать. Еще раз скажешь мне до свадьбы "мама", и я устрою такой гвалт, что весь Подол сбежится.
Впрочем, когда у Софы с Нёмой родился сын, баба Фира простила дочери ее выбор. Новорожденного внука Женю она обожала, баловала, как могла, и ласково звала Еничкой.
- Сейчас Еничка будет мыть ручки... сейчас Еничка будет кушать... сейчас Еничка сходит на горшочек...
- Мама, перестаньте над ним мурлыкать, - недовольно басил Нёма. - Он же мальчик, из него же должен расти мужчина!
- Из тебя уже выросло кое-что, - огрызалась баба Фира. - Моим врагам таких мужчин. Иди вынеси еничкин горшок.
Нёма вздыхал, покорно брал горшок и молча выходил с ним во двор. Двор был невелик, сжат полукольцом двухэтажных развалюх, посреди него росла высокая липа, под нею изогнулся водопроводный кран, из которого жильцы носили домой воду, а в тени липы разместился столик, за которым по обыкновению сидели пожилой сапожник Лева Кац и грузчик Вася Диденко, еще трезвый, но уже предвкушающий.
- Шо, Нёмка, дает теща прыкурыть? - сочувственно спрашивал Вася.
Нёма лишь безнадежно махал рукой, а из окна второго этажа высовывалась растрепаная голова бабы Фиры.
- Я -таки сейчас всем дам прикурить! - сообщала голова. - Сейчас тут всем будет мало места! Нёма, что ты застыл с этим горшком? Забыл, куда с ним гулять? А ты, Вася, не морочь ему голову и не делай мне инфаркт.
- Та я шо ж, баба Фира, - смущался Вася, - я ж так, по-соседски...
- Ты ему еще налей по-соседски, - ядовито замечала баба Фира, - а то Нёме скучно с отстатками мозгов.
- Фира, - миролюбиво вмешивался пожилой сапожник Кац, - что ты чипляешься к людям, как нищий с Межигорской улицы? Дай им жить спокойно.
- Лева, если ты сапожник, так стучи по каблукам, а не по моим нервам, - отрезала баба Фира. - Нёма, ты еще долго будешь там стоять с этим горшком? Что ты в нем такого интересного нашел, что не можешь с ним расстаться?
Нёма вздыхал и отправлялся с горшком по назначению, а Вася крутил головой и говорил:
- Не, хорошая вы женщина, баба Фира, а токо ж повэзло мне, шо нэ я ваш зять.
- Ты -таки прав, Вася, - кивала баба Фира. - Тебе -таки крупно повезло. А то б ты у меня уже имел бледный вид.
Вася был в чем-то похож на Нёму - такой же огромный и, в общем-то, незлобивый. Пять дней в неделю он был мил и приветлив со всеми и заискивающе нежен со своей женой Раисой. Но в пятницу с последними крохами рабочего дня что-то в нем начинало свербить, и он, распив с коллегами-грузчиками парочку законных пол-литровок, возвращался домой, и тогда тихий дворик оглашался звериным ревом и бешенной руганью. Вася с налитыми кровью глазами и какой-нибудь тяжестью в руках гонялся за женой Раисой, а та, истошно вопя, бегала от него кругами.
- Падла, подстилка, деньги давай! - ревел Вася.
- Ой, люди, ой, спасите, убивают! - причитала на бегу Раиса.
Соседи, привыкшие к этим сценам, неторопливо высовывались из окон.
- Вася, что ты за ней носишься, как петух за курицей, - с упреком замечал сапожник Кац. - Вам непремено нужно устраивать эти игры на публике?
- Молчыте, Лев Исаковыч, нэ злите меня, - пыхтел Вася, - а то я ей так дам, шо вам всем стыдно станэ.
Во дворике, как и на всем Подоле, русские, украинцы и евреи на удивление мирно уживались друг с другом, и Лева мог урезонивать Васю без риска услышать в ответ кое-что интересное про свою морду. Но утихомирить разбушевавшегося грузчика умела лишь баба Фира. Выждав необходимую паузу, она, словно долгожданная прима, высовывалась наконец из окна и роняла своим зычным голосом:
- Рая, у тебя совесть есть? Почему твой муж должен за тобой гоняться? Если ты его так измотаешь с вечера, что из него ночью будет за мужчина?
- От умная женщина! - задыхаясь, восторгался Вася. - Слышишь, гадюка, шо тебе баба Фира говорит?
- А ты молчи, цедрейтер коп! - напускалась на него баба Фира. - Совсем стыд потерял! Нет, мой покойный Зяма тоже был не ангел, но если б он взял моду каждые выходные устраивать такие скачки, так он бы уже летел отсюда до Куреневки.
Наутро Вася с виноватым видом появлялся в квартире Вайнштейнов-Гольцев.
- Баба Фира, - потупив глаза, бормотал он, - вам почыныты ничего не надо?
- Васенька, ну что за вопросы, - отвечала баба Фира. - Ты что, забыл какое сокровище здесь живет? Нёма умеет только обивать чужие двери, а дома руки у него начинают вдруг расти из другого места, и он не может забить ими гвоздь.
- Мама, прекратите уже эти разговоры, - раздавался из комнаты голос Нёмы. - Имею я в субботу право на законный отдых? Сам Господь Бог...
- Он вдруг о Боге вспомнил! - качала головой баба Фира. - Нёма, почему ты вспоминаешь о Боге, только когда в субботу нужно что-то сделать? Если бы люди поступали по-божески остальные шесть дней в неделю, мы бы -таки уже имели немножечко другой мир.
Нёма мычал из комнаты, что с него и этого мира хватит, а Вася тем временем чинил замок или проводку, или привинчивал дверцу буфета - руки у него были золотые, и он охотно и бескорыстно помогал соседям по хозяйству. Вернее, почти бескорыстно.
- Баба Фира... - начинал он, но та немедленно перебивала его:
- Учти, Вася - только румку.
- Баба Фира, - Вася корчил жалобную физиономию, - вы ж посмотрите на меня. Мэни ж та рюмка - шо дуля горобцю.
- А вечером мы снова будем иметь концерт?
- От слово даю - нияких концертов. Шоб мэни здохнуть.
- Ох, Вася, - вздыхала баба Фира, - ты -таки играешь на моем добром сердце.
Она доставала из буфета бутылку водки и стакан, наполняла его наполовину и протягивала Васе:
- Всё. Больше не проси, не дам.
- Так я шо... я... спасибо.
Вася выпивал свою опохмелочную порцию и спешил на помощь к другим соседям, а час спустя заявлялась его жена Раиса и скороговоркою пеняла:
- Баба Фира, вы шо, с ума сдурели? Вы ж знаете, шо Васе пить нельзя. С какого перепугу вы ему водкы налили?
- Я, Раечка, с ума не сдурела, - невозмутимо отвечала баба Фира. - Что я, Васю не знаю? Он же всё равно найдет, где выпить. Пусть хотя бы пьет в приличном месте.
- Он же ж казыться от водкы, - жалобно говорила Раиса.
- Тебе еще нивроку повезло, - вздыхала баба Фира. - Наш Нёма казыться без всякой водки. Как думаешь, Раечка, может, Нёме нужно дать как следует напиться, чтоб ему клин клином вышибло?
3
Сейчас удивительно вспоминать о том, с каким теплом и участием относились друг к другу эти очень разные и совсем не богатые люди, сведенные судьбой в одном подольском дворике, затерявшемся посреди огромного города и еще более огромной вселенной. Вася за рюмку водки - да и без нее тоже - чинил соседям замки, проводку и мебель, сапожник Лева Кац бесплатно ремонтировал их детям обувь, Раиса угощала всех варениками с творогом и вишнями, а когда баба Фира готовила жаркое, весь двор вытягивал носы в сторону второго этажа и как бы ненароком наведывался в гости. Угощать друг друга, собираться у кого-нибудь вместе было неписанной, но священной традицией.
- Ой, баба Фира, - щебетала хорошенькая, незамужняя учительница музыки Кира Самойловна Цейтлина, постучавшись к соседям в дверь, и смущенно переминаясь на пороге, - вы извините, я на одну секундочку. У вас спичек не будет? Я как раз собиралась варить суп...
- Кира, что ты мне рассказываешь бубес майсес про какой-то суп, - усмехалась баба Фира. - Слава Богу, весь Подол знает, что ты за повар. Проходи в комнату, мы сейчас будем обедать.
- Нет, ну что вы, - пунцовела Кира Самойловна. - Неудобно как-то...
- Кира, не строй нам из себя Индиру Ганди. Сделай вид, что ты помыла руки и садись уже за стол.
- Но...
- Кира, нам неинтересно тебя ждать. Еничке давно пора кушать, поимей совесть к ребенку.
Кира якобы с неохотой сдавалась и позволяла усадить себя за стол, за которым уже сидели Софа, Нёма и маленький Еничка, а баба Фира черпаком раскладывала по тарелкам жаркое. Аромат тушеного мяса заполнял комнату и просачивался сквозь неплотно закрытое окно, сводя с ума весь дворик.
- И как вы только готовите такое чудо, - мурлыкала с набитым ртом учительница музыки.
- Мясо, лук, соль, перец и немного воды, - с удовольствием объясняла баба Фира.
- И всё?
- А что тебе еще надо? У Бога -таки вообще ничего не было кроме воды, когда Он создавал этот мир.
- Оно и видно, - буркал Нёма, отправляя в рот несколько кусков мяса.
- Да, но Он -таки не мог предвидеть, что вся Его вода стукнет в одну-единственную голову, - косилась на зятя баба Фира. - Не обращай на него внимания, Кирочка. Ты же видишь - когда Бог раздавал мозги, Нёма был в командировке.
- Мама, - раскрывала рот обычно молчаливая Софа, - перестаньте уже терзать Нёму при посторонних.
- Софа! - Баба Фира багровела и повышала голос. - Ты думай иногда, что говоришь! В нашем дворе не может быть посторонних. Тут слишком хорошая слышимость. Кирочка, я тебя умоляю, возьми еще жаркого.
- Нет-нет, баба Фира, что вы, - в свою очередь заливалась краской Кира. - Я... я не могу, мне... Мне пора. Спасибо вам огромное.
И она поспешно удалялась.
- Софа, - загробным голосом произносила баба Фира, - твой цедрейтер папа, земля ему пухом, тоже умел ляпнуть что-то особенно к месту, но ты -таки его превзошла. Он бы тобой гордился.
- Перестань, мама, - нервно отмахивалась Софа. - Подумаешь, учительница музыки...
Присутствие Киры Самойловны выводило Софу из себя. Она была уверена, что незамужняя соседка имеет виды на ее Нёму, и всякий раз норовила обронить какое-нибудь едкое замечание в ее адрес.
- Софонька, детонька, - сочувственно вздыхала баба Фира, - зачем эти нервы? Ну посмотри ж ты на свое сокровище разутыми глазами - кому оно еще сдалось кроме такой дуры, как ты?
- Я вас тоже люблю, мама, - басил Нёма в ответ.
- Тебе сказать, где я видела твою любовь и какого цвета на ней была обувь? - Баба Фира поворачивалась к зятю.
- Скажите, - с готовностью отзывался тот.
- Чтоб моим врагам, - поднимала глаза к потолку баба Фира, - досталось такое...
- Да? - с улыбкой глядел на нее Нёма. - Мама, ну что ж вы замолчали на самом интересном месте?
Баба Фира бросала на зятя убийственный взгляд и, прошептав "Готеню зисер", выходила во двор.
4
Как-то раз, после одного из визитов Киры Самойловны, которая обыкновенную яичницу умела приготовить так, что приходилось вызывать пожарную команду, баба Фира, закрыв за гостьей дверь, с таинственным видом вернулась в комнату, поглядела на Еничку, затем на дочь с зятем и несколько раз удрученно покачала головой.
- Что вы так смотрите, мама? - лениво поинтересовался Нёма. - Вам неймется сделать нам важное сообщение?
- Хочется вас спросить, - полным сарказма голосом произнесла баба Фира, - кто-нибудь в этом доме заметил, что Еничке уже исполнилось пять лет?
- И это вся ваша сногосшибательная новость, мама?
- Помолчи, адиёт! Вы мне лучше объясните, почему ребенок до сих пор не играет на музыке? Почему у него нет инструмента?
- А с какой такой радости у него должен быть инструмент?
- Софа, - строго молвила баба Фира, - закрой своему сокровищу рот. У меня -таки уши не железные. Когда у еврейского ребенка нет инструмента, из него вырастает бандит. - Еничка, хаес, - ласково обратилась она к внуку, - ты хочешь играть на пианино?
- Хочу, - ответил Еничка.
- Вот видите, ребенок хочет! - ликующе провозгласила баба Фира.
- Мама, вы его не так спрашиваете, - вмешался Нёма. - Еня, ты хочешь вырасти бандитом?
- Хочу, - ответил Еня.
- Вот видите, мама, - усмехнулся Нёма, - нормальный еврейский ребенок, он хочет всего и сразу. Еня, ты хочешь ремня?
Еня подумал и заплакал.
- Ты -таки поц, Нёма, - заявила баба Фира. - Что ты делаешь ребенку нервы? Тебе жалко купить ему пару клавиш?
- А оно нам надо? Вам что, мама, надоело мирно жить с соседями?
- А что соседи?
- И вы еще говорите, что я поц! Они -таки вам скажут спасибо и за Еню, и за пианино! Холера занесла сюда эту Цейтлину!
- Софа, - повернулась к дочери баба Фира, - скажи что-нибудь своему йолду.
- Мама, - устало ответила та, - оставь Нёму в покое!
- Софочка, если твоя мама оставит меня в покое, ей станет кисло жить на свете.
- Ты слышишь, как он разговаривает с твоей матерью?
- Нёма, оставь в покое маму!
- Так я ее должен оставить в покое или она меня?
- Меня оставьте в покое! Оба! У меня уже сил никаких от вас нет!
Софа не выдержала и расплакалась. Маленький Еня с интересом посмотрел на маму и на всякий случай завыл по-новой.
- Вот видишь, Нёма, - сказала баба Фира, - до чего ты своей скупостью довел всю семью.
- Я довел?!
- Не начинай опять. Так ты купишь ребенку пианино?
- Хоть целый оркестр!
- Хочу оркестр, - сказал Еня, перестав выть.
- Еня, я тебе сейчас оторву уши. Хочешь, чтоб я тебе оторвал уши?
Еня снова сморщил физионимию, готовясь зареветь.
- Тебе обязательно надо доводить ребенка до слез? - гневно поинтересовалась баба Фира.
- Мама, - проговорил Нёма, сдаваясь, - вы на секундочку представляете, что скажут соседи?
- Соседи, - уверенно заявила баба Фира, - скажут спасибо, что мы не купили Еничке трубу.
Она нежно прижала к себе внука и поцеловала его в лоб. Еничка посмотрел на бабушку, затем на родителей и сказал:
- Хочу трубу.
5
Еничке купили пианино, и относительно мирный доселе дворик превратился в сумасшедший дом на открытом воздухе. Уже в девять часов утра звучал иерихонский глас бабы Фиры:
- Еничка, пора играть музыку!
Минут десять после этого слышны были уговоры, визги, угрозы, затем раздавался еничкин рев, и наконец дворик оглашали раскаты гамм, сопровождаемые комментариями бабы Фиры:
- Еничка, тыкать пальцем надо плавно и с чувством!.. Нет, у этого ребенка -таки есть талант!.. Не смей плевать на клавиши, мешигинер коп!.. Еничка, чтоб ты был здоров, я тебя сейчас убью!.. Ах ты умничка, ах ты хаес... Сделай так, чтоб мы не краснели вечером перед Кирой Самойловной.
Кира Самойловна лично взялась обучать Еничку. Денег за уроки она не брала, но всякий раз после занятия оставалась ужинать.
- У мальчика абсолютный слух, - говорила она, потупив глаза и пережевывая бабыфирино жаркое.
- Если б у него был абсолютный слух, - отзывался Нёма, - он бы одной рукой играл, а другой затыкал уши.
- Нёма, тебе обязательно нужно вставить какое-нибудь умное слово, чтоб все видели, какой ты йолд? - рычала баба Фира. - Ты слышишь, что говорит Кира Самойловна?
- Я-то слышу, - отвечал Нёма, - У меня-то как раз слух в порядке. Я даже слышу, чего она не говорит.
И он с усмешкой глядел на Киру Самойловну, которая немедленно заливалась краской.
Соседи по двору по-разному отреагировали на появление у Вайнштейнов-Гольцев пианино. Вася, к примеру, продолжая напиваться по пятницам, беготню за женой прекратил.
- Я так думаю, шо хватит нам во дворе одного артиста, - объяснял он.
- Як по мне, так лучше б вже ты за мною с топором гонялся, - вздыхала Раиса.
Сапожник Лева Кац из деликатности помалкивал, но когда Еничка дошел до детской пьески Моцарта, не удержавшись, заметил:
- Фира, может, твоему внуку стать артиллеристом?
- Что вдруг? - подозрительно осведомилась баба Фира.
- Эффект тот же, а ворочаться в гробу некому.
Баба Фира смерила сапожника испепеляющим взглядом.
- Ты, Лева, своим молотком себе весь слух отстучал, - заявила она и направилась к дому.
- Нёма, - сказала она, войдя в квартиру, - у меня есть для тебя интересная новость. Ты не такой адиёт, как я думала.
- Мама, а вы не заболели? - обеспокоенно спросил Нёма.
- Я таки нет. А вот наши соседи, по большой видимости, да. Ты подумай, им не нравится, как наш Еничка играет музыку.
Нёма молча развел руками.
- Не делай мне таких жестов, ты не на сцене, - строго молвила баба Фира. -Нёма, нам нужно ссориться с соседями?
- Нет, - быстро ответил Нёма.
- Но нам же нужно, чтоб мальчик имел музыкальное образование?
- Нет, - ответил Нёма еще быстрее.
- Нёма, я сказала, что ты не адиёт, и уже жалею об этом. Конечно, нам нужно, чтобы Еничка мог дальше играть свою музыку.
- Мама, - нервно проговорил Нёма, - не морочьте мне голову, говорите уже, чего вы хотите.
- Я хочу, - объяснила баба Фира, - чтоб волки получили свой нахес, а овцы сохранили свой тухес. Надо устроить соседям приятный сурприз.
- Мы им уже устроили сюрприз, когда купили Еньке пианино.
- Так они ж таки его не оценили. Вот что, Нёма, мы сделаем а гройсер йонтеф и всех на него пригласим.
- Кого это всех?
- Весь двор. Я приготовлю мое жаркое и зафарширую рыбу, Софа сделает селедку под шубой и салаты, ты купишь водку и вино...
- Мама, - сказал Нёма, - вы на минуточку представляете, во что нам обойдется это счастье?
- Нёма, не будь жлобом, - ответила баба Фира. - Ты что, имеешь плохие деньги с обитых дверей?
- Так я за них таки работаю, как лошадь!
- А теперь отдохнешь на них, как человек. Тебе что, деньги дороже соседей?
- Знаете что, мама, - вздохнул Нёма, - чтоб я так жил, как с вами соскучишься. Большое вам спасибо, что мы не купили Ене трубу. А то бы мы имели в гости весь квартал.
6
В субботний вечер маленькая квартирка Вайнштейнов-Гольцев трещала по швам, а стол ломился от яств. Гости ели салаты, рыбу, жаркое, пили вино и водку, галдели, смеялись, пели. Пели "Бублички", пели "Ло мирале", пели "Галю" и "Ямщика". Три языка сливались в один всеобщий настрой, создавая не какую-то дикую и бессмысленную какафонию, а удивительную гармонию, когда инструменты, каждый звуча на свой лад, не мешают, а помогают друг другу творить единую музыку. Сапожник Лева Кац, расчувствовавшись, предложил даже, чтобы Еничка сыграл что-нибудь на своем "комоде с клавишами", но ему тут же налили водки и успокоили. Гвоздем пира, как всегда, было бабыфирино жаркое.
- Не, баба Фира, - горланила раскрасневшаяся от вина Раиса, - вы мэни -такы должны дать рецепт.
- Мясо, лук, перец, соль и немного воды, - затверженной скороговоркой отрапортовала баба Фира.
- Ох, ягодка моя, - покачала головой Раиса, - ох, не верю я вам! Шо-то вы такое еще туда кладете.
- А гиц им паровоз я туда кладу! - разозлилась баба Фира. - Нужно готовить с любовью, тогда люди будут кушать с аппетитом.
- Не, баба Фира, вы, наверно, хочэте рецепт с собой в могылу унести, - с обидой в голосе и присущей ей тактичностью предположила Раиса.
- Рая, ты -таки дура, - покачала головой баба Фира. - Кому и что я буду в этой могиле готовить? Там, чтоб ты не сомневалась, уже не мы будем есть, а нас.
- Баба Фира, та простить вы ее, дуру, - вмешался Вася. - Нёмка, пойдем у двор, подымим.
Они вышли во двор и сели за столик под медвяно пахнущей липой, сквозь листву которой проглядывало ночное июньское небо в серебристых крапинках звезд.
- Отже ж красота, - задумчиво проговорил Вася, подкуривая папиросу. - Нёмка, а як по-еврэйски небо?
- Гимел, - подумав, ответил Нёма.
- Тоже ничего, - кивнул Вася. - Нёмка, а як ты думаешь, там, - он ткнул указательным пальцем вверх, - есть хто-нибудь?
- Николаев и Севостьянов, - вновь подумав, ответил Нёма.
- Хто?
- Космонавты. Вторую неделю на своей орбите крутятся.
- Ты шо, дурной? Я ж тебя про другое спрашиваю.
- А про другое я не знаю.
- От то ж и плохо, шо мы ничего нэ знаем. - Вася вздохнул. - Нёмка, а если там, шо бы хто нэ говорыл, есть Бог, то он якой - православный или еврэйский?
- Вообще-то, Вася, - почесал голову Нёма, - если Бог создал человека по своему образу и подобию, так Он -таки может быть и негром, и китайцем, и женщиной.
Вася, чуть не протрезвев, ошарашенно глянул на Нёму.
- Знаешь шо, Нёмка, - сказал он, - тоби пыты нэльзя. Цэ ж додуматься такое надо - Бог-китаец!
- А что, - пожал плечами Нёма, - их много.
- О! - ликующе провозгласил Вася. - То-то и оно. Нэ може Бог китайцем буты. Их много, а Он - один.
- Вася, - Нёма шмыгнул носом, - ты гений и вус ин дер курт. Дай я тебя поцелую.
Он чмокнул Васю в щеку, слегка пошатнулся и чуть не опрокинул их обоих со скамьи на пыльный асфальт.
- Дэржись, Нёмка, дэржись, - ухватил его за рукав Вася. - О, то я знову правильно сказав! Дэржаться нам всем надо друг за друга. Вместе дэржаться. Хорошо ж такы, шо мы все в одном дворе живем. Надо дэржаться.
- Да. - Нёма выпрямился и вздохнул. - Надо, Вася. А только ты мне скажи как умный человек...
- Где? - удивился Вася. - Хто?
- Ну ты же, ты. Так ты мне таки скажи как умный человек: почему в жизни надо одно, а получается совсем другое?
- Ой, Нёмка, я в этих еврэйских вопросах нэ розбыраюсь.
- Почему еврейских?
- Так то ж ваша привычка морочить себе и другим голову. Не, Нёмка, ты токо на мэнэ нэ ображайся. Це ж нормально. Нехай еврэи будуть еврэями, русские русскими, а украйинци украйинцями. Ну и будэмо жить себе вместе и нияких претэнзий. Воно нам надо? Мы ж тут на Подоле як той винегрет перемешались. А токо ж винегрет тем и хороший, шо он нэ каша. Тут огурчик, тут картопля, тут буряк. А вместе вкусно.
- Вкусно, - согласился Нёма. - Знаешь, Вася, я еще никому не говорил, даже своим... Мы же ордер получили.
- Шо? - не понял Вася. - Якый ордер? З прокуратуры? А шо вы такое натворили?
- Да не с прокуратуры. На кватртиру ордер. Квартиру нам дают, новую, на Отрадном.
- Та-ак, - Вася с шумом выпустил воздух. - От и подержались вместе. Ладно, Нёмка, поздно уже. Пойду забэру Райку и - у люльку.
- Ты что, Вася, обиделся?
- Чого мне обижаться... Спаты пора.
7
На следующее утро весь двор только и галдел о том, что Вайнштейны-Гольцы получили ордер и переезжают в "настоящие хоромы" на Отрадном. Более остальных известие это возмутило бабу Фиру.
- Нёма, - сказала она, - что это за поцоватые фокусы? Почему я должна узнавать о себе новости от соседей?
- Небось, Цейтлиной своей первой сообщил, - вставила Софа.
- Софа, - устало проговорил Нёма, - что тебе Цейтлина спать не дает?
- Это тебе она спать не дает, - огрызнулась Софа. - Ну ничего, даст Бог переедем, и ты таки ее уже не скоро увидишь.
- Я так понимаю, мое мнение в этом доме уже никого не волнует, - заметила баба Фира. - И очень напрасно. Потому что лично я никуда не еду.
- Что значит, никуда не едете? - не понял Нёма.
- Мама, ты что, с ума сошла? - вскинула брови Софа.
- Я -таки еще не сошла с ума, - торжественно объявила баба Фира. - Я -таки еще имею чем соображать. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь прожила всю свою жизнь. Почему я должна умирать в другом месте?
- Что вдруг умирать? - пожал плечами Нёма. - Живите сто лет.
- Я уже живу сто лет и больше, - вздохнула баба Фира. - С тобою, Нёма, год идет за двадцать.
- Ну, так живите себе две тысячи! Вы ж поймите, мама, это же новая квартира, с удобствами, с ванной, с туалетом...
- Что ты меня так хочешь обрадовать этим туалетом? Что я уже, такая старая, что не могу сходить в ведро?
- О Господи! - запрокинул голову Нёма. - Мама, если Бог дал вам столько ума, что вы не хотите думать о себе, так подумайте хоть о Еничке. Он что, тоже должен всю жизнь ходить в ведро? Ведь этот дом всё равно снесут.
- Только через мой труп! - заявила баба Фира.
- Мама, - простонал Нёма, - кого вы хочете напугать вашим трупом? Если им скажут снести дом, они наплюют на ваш труп и снесут его.
- Ты -таки уже плюешь на мой труп, - отчеканила баба Фира и решительно вышла из комнаты.
С тех пор она каждое утро сообщала, что никуда не едет, что нужно быть сумасшедшим на всю голову, чтобы на старости лет отправляться на край света, что этой ночью ей снился покойный Зяма и что скоро она попадет к нему.
- Мама, погодите огорчать Зяму, - уговаривал ее Нёма. - Давайте сначала переедем на новую квартиру, а там уже будем морочить друг другу голову.
Отношения с соседями по двору как-то быстро и некрасиво испортились. Те отказывались верить, что баба Фира ничего не знала о грядущем переезде, и стали поглядывать на нее искоса.
- Нет, Фира, я, конечно, рад за тебя, - сказал сапожник Кац, - но это как-то не по-соседски. Мы столько лет прожили рядом, что ты могла бы нам и сразу сообщить.
- А вы так нэ волнуйтесь, Лев Исаковыч, - ядовито встряла Раиса. - Вы тоже скоро съедете куда-нибудь. Це мы тут сто лет проторчым, а еврэям всегда счастье.
- Рая, - ответил Лева Кац, - дай тебе Бог столько еврейского счастья, сколько ты его унесешь. Нет, я понимаю: чтобы к евреям не было претензий, им нужно было родиться украинцами или русскими. Но, деточка моя, кто-то же в этом мире должен быть и евреем. И, таки поверь мне, уж лучше я, чем ты.
- Хватит вже, Лев Исаковыч, - перебил его Вася. - Одна дура ляпнула, другой сразу подхватил.
- Надо было, Вася, поменьше языком трепать, - заметила баба Фира. - А то еще не весь Подол знает про наш ордер.
- Надо було его поменьше водкою поить! - зло сверкнула глазами Раиса. - Вы ж, баба Фира, его спаивалы всё врэмъя!
- Рая, ты думай, что говоришь!
- Я знаю, шо говорю! Ну, ничого, уедете - я за нього возьмусь. Он у мэнэ забудет, як по еврэйским квартирам пьянствовать.
Баба Фира смерила Раису сначала гневным, а затем каким-то печальным взглядом, развернулась и зашагала к дому.
- Баба Фира, та нэ слухайтэ вы цю дуру! - крикнул ей вслед Вася.
- Я, Вася, не слушаю, - оглянувшись, проронила баба Фира. - В этом мире уже давно никто никого не слушает.
Между соседями окончательно, что называется, пробежала кошка. При встрече они едва здоровались друг с другом, а бабу Фиру и вовсе игнорировали. Даже Кира Цейтлина чувствовала себя обиженной и, к радости Софы, забыла дорогу к Вайнштейнам-Гольцам, питаясь в своем полуподвале бутербродами. Что ж до бабы Фиры, то та теперь почти не выходила во двор, целыми днями возилась с Еничикой, суетилась на кухне или просто лежала на диване у себя в комнате. К радости дочери и зятя она смирилась с переездом и лишь просила, чтобы ей об этом не напоминали и чтоб в доме было тихо.
- Не расстраивайтесь, мама, - говорил Нёма. - Вы же умная женщина, вы же понимаете: когда всем живется плохо, мы едины. Когда кому-то становится чуточку лучше, мы начинаем звереть.
Наконец, означенный в ордере день наступил. Накануне Нёма и Софа доупаковывали оставшиеся вещи, чтобы с утра загрузить их в машину, а баба Фира стояла у плиты и готовила огромную кастрюлю жаркого.
- Мама, - послышался из комнаты голос Нёмы, - я не понимаю, зачем вам это надо? Кого вы после всего хотите угощать вашим мясом?
- Моим мясом я таки знаю кого буду скоро угощать, - мрачно отозвалась баба Фира.
- Мама, оставьте уже ваши веселые шутки!
- А ты, Нёма, оставь меня в покое. Пакуй свои манаткес и не делай мне кирце юрн.
Поздно вечером, когда все соседи уже легли спать, баба Фира вышла во двор и поставила кастрюлю на стол под липой. Ночной ветерок тихо прошелестел листьями.
- И тебе всего доброго, - сказала баба Фира. - Ты таки останешься тут, когда все отсюда уже разъедутся.
Она прислонилась к стволу липы, несколько минут постояла молча, вздохнула и направилась домой.
Наутро приехал заказанный фургон, грузчики, привычно поругиваясь, затолкали в кузов вещи - начиная с Еничкиного пианино и кончая картонными ящиками с посудой.
- Ну, присядем на дорожку, - бодро сказал Нёма. - Начинается новая жизнь, попрощаемся со старой.
- Тебе, я вижу, очень весело прощаться, - заметила баба Фира.
- А чего грустить, мама? - вмешалась Софа. - Всё хорошо, что кончается.
- Таки я была права, что человеческая глупость - это плохо, - усмехнулась баба Фира.
- Потому что она не кончается никогда.
Всё семейство вышло во двор. Баба Фира держала за руку Еню, который, не преставая, бубнил:
- Хочу домой... хочу уехать... хочу кататься на машине...
Посреди двора, на столе, стояла кастрюля с нетронутым жарким.
- Ну, мама, кто был прав? - поинтересовался Нёма.
- Прав был Господь Бог, - ответила баба Фира, - когда на шестой день сотворил человека, на седьмой отдохнул от такого счастья, а на восьмой выгнал этот нахес из рая.
- И в чем же Он был прав?
- В том, что человек и рай не созданы друг для друга. Хотя ты, Нёмочка, таки попадешь туда после смерти.
- Почему?
- Потому что у тебя нет мозгов. Садимся уже в машину.
- А кастрюля?
- Нёма, - вздохнула баба Фира, - ты -таки точно попадешь в рай. Какое мне сейчас дело до какой-то каструли? Пусть стоит тут, как памятник. Пусть соседи делают с ней, что им нравится. Пусть распилят на части. А еще лучше - пусть поставят ее мне на могилу. Если, конечно, кто-нибудь из них когда-нибудь вспомнит, что жила на свете баба Фира и что они когда-то очень любили ее жаркое.
8
Не знаю, долго ли прожила еще баба Фира на Отрадном, бывшем хуторе, являвшем теперь, вопреки собственному названию, довольно безотрадную картину пятиэтажных хрущоб с однообразными прямоугольными дворами. Не знаю, была ли она счастлива, воспитывая внука Еню, и ссорясь с дочерью и зятем Нёмой. Не знаю, на каком кладбище ее похоронили и принес ли кто-нибудь на ее могилу кастрюлю, в которой она так мастерски готовила свое знаменитое жаркое. Тем более не знаю, попала ли она после смерти в рай или, дождавшись очереди, поселилась в каком-нибудь дворике, вроде столь любимого ею подольского двора, в компании таких же немного сумасшедших соседей. И уж совсем не знаю, были ли в этом загробном дворике удобства или людям снова приходилось справлять свои дела в ведро и выносить их в уборную. Но я знаю - или думаю, что знаю, - одно: мне почему-то кажется, что именно с переездом из старых, лишенных удобств квартир в новые безликие микрорайоны между людьми и даже целыми народами пролегла некая трещина, похожая на незаживающий рубец. Оркестр распался, гармония рассыпалась. Ибо для каждого инструмента стало важно не столько играть свою мелодию, сколько хаять чужую.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Lubov Krepis СПАСИБО. 


Михаил-52- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 72

Страна : Город : Нью-Йорк
Город : Нью-Йорк
Район проживания : Качановка (ул. Косогоркая,2) и ул.Ново-Ивановская
Место учёбы, работы. : школа №2, Бердичевский маш. техникум
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 571
Репутация : 334
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Наш телеведущий и бывший одессит Ян Левинзон cказал бы про бабу Фиру: -"Она по моему в Киев таки переехала из Одессы".

Sem.V.- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 88

Страна : Город : г.Акко
Город : г.Акко
Район проживания : Ул. К.Либкнехта, Маяковского, Н.Ивановская, Сестер Сломницких
Место учёбы, работы. : ж/д школа, маштехникум, институт, з-д Прогресс
Дата регистрации : 2008-09-06 Количество сообщений : 666
Репутация : 695
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Я бы этому Михаилу Юдовскому памятник воздвиг за бабу Фиру. Прекрасно написано, сочный жаргон и очень приятно читать.
Люба, откуда этот Михаил и что он ещё написал?
Люба, откуда этот Михаил и что он ещё написал?

Алексей- Почётный Форумчанин

- Возраст : 85

Страна : Район проживания : К. Либкнехта 10
Район проживания : К. Либкнехта 10
Дата регистрации : 2008-04-23 Количество сообщений : 495
Репутация : 489
 Израиль глазами московской туристки.
Израиль глазами московской туристки.
Эту статью мне прислал Лев Гланц
Sofia Sokoletsky
: Израиль глазами московской туристки
Здравствуйте,
Меня зовут Марина Романенко, и я хочу поведать вам о своем тур-вояже в Израиль, Землю Обетованную. И не только о нем.
Вообще-то, я не думала, что возьмусь писать такое... эссе, но, если прочтете до конца, вы поймете, почему я не могла не написать.
В Израиль я поехала экспромтом – после трагедии в личной жизни (слава Богу, все живы, меня всего лишь бросил муж ради большой и светлой 22-ух летней любви). Позвонила моя подруга детства – Наташка, с которой мы выросли на одном московском дворе, и, узнав про мой резко изменившийся статус, немедля заявила, что свой 33 день рождения я встречаю не одна с мамой в нашей двушке в суровом московском январе, а как раз у них, на берегу Средиземного моря, где в том же январе плюс 20, где любимые друзья, и вообще... смена обстановки. Так я обнаружила себя на борту Эль-Алевского Боинга по рейсу Москва-Тель-Авив.
Сказать, что меня встретили хорошо, ничего не сказать. Этих людей (Наташку и ее мужа Эдика) я знаю много -много лет, мы родные – как семья, и я чувствовала их природную и столь привычную доброту, как бы окрашенную легким налетом местного менталитета. Трудно объяснить, но здесь люди ходят с душой нараспашку, не боясь: дарят свое расположение – и не только знакомому, а даже чужаку – просто так, "забесплатно". Мне было странно поначалу, все таки мы, москвичи, жуткие снобы, и для меня наприемлемо явиться в гости к друзьям друзей вместе, просто "за компанию". Я упиралась, Наташка настаивала, утверждая, что "Ира и Таль классные ребята", и "Оля и Габи всегда рады новым знакомствам". Я поняла ее только после того, как почувствовала кожей, как тут принимают гостей. После шумных приветствий и обниманий открывается бутылка терпкого красного вина (по ходу дела выясняется, что родом оно с Голанских высот или с Иерусалимского надгорья), из недр холодильника выуживается все его содержимое, ставится чайник (для тех, кто не хочет вина или не может, по причине предстоящего вождения машины, и не только по этой причине, как выяснилось чуть позже), все распологаются, где угодно (только не в креслах гостиной, а на поверхностях, вроде кухонной столешницы, ковра и т.д.), и ведется разговор обо всем на свете; и все очень тепло интересуются, как мне тут, нахожу ли я Израиль интересным и красивым, как мне было в Иерусалиме на экскурсии, и пробрало ли меня у Гроба Господня, и снизошла ли на меня Иерусалимская благодать, подобно которой нет нигде в мире, и что я думаю по поводу местной политики своим непредвзятым мнением, и как я нахожу жутких и наглых израильтян – водителей (ха! Вы не ездили по МКАДу в пятницу вечером!) , и все, все, все… И иврит, и английский, и русский вперемешку; и меня учат обязательным словам, которые прилипают ко мне насмерть, вроде: мазган (кондиционер), беседер (все в порядке, хорошо), "ма питом?!" (с какой радости?!); и хозяйка Ирина, смеясь перевод, ит мне своего мужа Таля, "аборигена", как она его называет, который не смог донести (или я не смогла допонять?) до меня свою мысль по-английски... И вдруг все начинают петь мне "Happy Birthday" и на английском, и на иврите, и Таль даже исполняет в мою честь "День Рождение только раз в году" из «Чебурашки» (знания почерпнуты после просмотра оного мультика с четырехлетней дочуркой, как объясняют мне, хохоча от его акцента, еще паралельно исполнению). И все поднимают бокалы с красным душистым вином, и в мою честь произносятся тосты, которые завершаются емким тостом "Лехаим!" – "За жизнь!", и я краснею и бледнею, понимая, что лучшего тоста в мою честь не произносили никогда и никто, как эта странная и разношерстная, но в тоже время какая-то своя, родная всего за два часа, – компания. И я влюбляюсь в этот тост.
И этот смешной и живой Вавилон вдруг замолкает и становится очень серьезным, когда муж Ольги, кинув взгляд на свой пейджер, срывается с места и бежит, как есть, без куртки и зонта (а шел дождь) , к своему автомобилю, успев крикнуть Эдику, чтоб довез Олю домой. И я с изумлением узнаю, что этот смешной балагур, который травил анекдоты на почти трех языках, виртуозно не растеряв их смысла в переводах, – боевой летчик Израильского ВВС в звании майора, находящийся на "коненут" – боевой готовности, в случае вызова на базу при необходимости. А что может быть за необходимо – в этой маленькой отважной стране, окруженной недругами (да что там – врагами) - можно только догадываться. База находится совсем рядом с тем населенным пунктом, где меня принимают друзья и друзья друзей, и, когда через 20 минут я слышу рев реактивных двигателей над головой, Таль говорит что-то на иврите, я понимаю только одно слово – "Аза" (Газа), и Эдик не успевает перехватить нечто непечатное, вылетевшее у него из-за плотно сжатых, побледневших губ. У каждого в этой стране есть кто-то знакомый, который погиб, ее охраняя. Это трудно понять, в это трудно поверить, но представьте себе: у каждого (!) человека в возрасте около 30 лет здесь есть хотя бы один «кто-то» (друг, сослуживец, знакомый, брат...), кто положил свою жизнь при обороне этого государства, вынужденого ежедневно, ежечасно бороться за безопасность своих граждан и за свое свое право существовать; или – пал жертвой терракта. Но не подумайте, что все так мрачно, жизнь идет своей колеёй, и назавтра все уже как будто забыли о том, как мы подвозили Олю одну домой, как она ждала своего мужа до 2 часов ночи, когда тот вернулся с задания. И о том, как она уже научилась не спрашивать (все равно не ответит): «как?» и «что?». Потому что это - их быт. Это их жизнь, и израильтяне умеют шутить о своем быте с известной долей цинизма. Вы знаете, что у евреев есть даже шутки о Холокосте? Может, в этом - секрет ума и живучести этой удивительной нации: в умении смеяться над собой и своими самыми великими несчастьями?
А на следущий день мы едем в Хайфу и в старый город Акко, и успеваем заехать в волшебное местечко на горе, с которого видно синее Средиземное море: Зихрон-Яаков. А еще через день мы едем на Мертвое море через Иерусалим и заезжаем в этот Город, потому что не заехать – невозможно. И на этот раз мы идем не по святым местам, а просто по кривым улочкам Города и по знаменитому базару Махане-Ехуда, и смотрим на город со смотровой площадки. И на меня нисходит преусловутая "Иерусалимская благодать", о которой меня спрашивали простодушные израильтяне, для которых спросить о самом сокровенном - все равно как пожелать доброго утра, но почему-то это не воспринимается как бестактность, и почему-то им легко отвечать..И, уезжая из Золотого Иерусалима уже ближе к заходу солнца (а ехали мы на Мертвое Море с ночевкой, с палатками), я понимаю суть этого названия: весь город вымощен и облицован светлым камнем, выкорчеванным из самих же Иерусалимских гор, который светится золотом в лучах заходящего солнца.
И я вспоминаю вопрос одного из моих соплеменников (заданный гиду во время Иерусалимской экскурсии) , разочарованно заметившего, что он воображал Иерусалим на более знатной высоте гор; на что гид , усмехнувшись, ответил, что не тот город возвышен, который высок, а тот, который ближе к Господу.
…А по дороге мелькают библейские пейзажи, прямо как с илюстраций к Старому Завету: надгорья, кустистая зелень, пещерки и лесочки, "что-то крымское немного и кавказкое слегка"&, и я осознаю, что каждый квадратный метр этой страны насыщен историей – мировой, великой, порою – страшной историей, а так же – пропитан кровью, совсем недавней для этой исторической земли, кровью, которой всего несколько десятков лет, – кровью людей, боровшихся за право иметь свою Родину и право жить.
Мы разбиваем палатки на горе Мецада; полная луна светит почти неестевственым светом, показывая мне самое низкое место на земном шаре, – Мертвое Море, а за ним горы Иордании, и чуть ближе – призраки библейских Содома и Гоморры и соляные столбы Лота и его жены.. И горит костер, и я курю сигарету, и каждый думает о своем; и я знаю, что думаем мы об одном и том же: что такие минуты редки, а помнят их всю жизнь, что скоро мы расстанемся, так как мои друзья живут на одной из своих Родин, и наличие другой, нашей общей, порой разрывает им сердце; и этот вечный диссонанс, вечная мука русской души кровного еврея, уехавшего сюда «с концами», но «не до конца» уехавшего оттуда. И скоро будут "снова между нами города, взлетные огни аэродрома"&,
но мне жаль только чуточку, потому что вдруг я понимаю, как я горда за моих друзей, которые являются частью этого народа, сумевшего за каких-то 60 лет построить страну в пустыне; народа, не растерявшего себя через тысячелетия и все беды и катастрофы; у которого внутри есть животворная сила, как будто он и в самом деле был избран Господом в пустыне, совсем недалеко от того места, где сейчас догорает наш костер.
Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. А восход солце открывает мне совершено непередаваемый пейзаж: бирюзовое Мертвое Море в окружении розовых гор и белой-пребелой соли, обрамляющей бирюзовые берега. Мы спускаемся к берегу, и я захожу в эти воды, которые всё норовят вытолкнуть меня, как будто в них нет места для инородного тела. Но в конце концов Море позволяет мне опустится в его маслянистую теплую воду, где вместо дна – глыбы соли. Ощущение непередаваемое, его можно только почувствовать, словами его не передать. И это в январе месяце! А тут 25 градусов, тепло, как в Эдеме.
& Из песен Владимира Фридмана
А в последуещие дни Эдик сокрушается, что не сможем поехать в Эйлат – никак не успеваем: ехать далеко, но на один день - нет смысла, а отгул Эдику не дают.. Зато мы гуляем по старому Яффо и Тель-Авиву, и я удивляюсь, как такой небольшой по нашим меркам (400 тыс.) город создает впечатление такого большого из-за своей разношерстности и противоположностей, которыми он кишит: молодой и вместе с этим солидный, современный и исторический, бурлящий и степенный.. Сидящие в «кафушках» израильтяне что-то горячо обсуждают, и я интересуюсь у Наташки, о чем сыр-бор. Послушав их гортанную речь, Наташка хмурится и переводит мне, что в связи грядущим (28 января) всемирным днем памяти Холокоста по всему миру прошла волна антисемитских выступлений разных общественых лиц: дескать, Холокоста вообще не было, и все это – промысел хитрых евреев, маскирующих таким образом собственные грехи перед палестинским народом. И вот, дескать, мужики в кафешке спорят как можно «натереть пятак» мерзким антисемитам по всему миру, да и вообще всему ООН, который дает им право голоса...
А на следуйщий день случилось землетресение в Гаити, и Израиль первым направил на другой конец света бригаду спасателей со всем оборудованием и медикаментами, которые за 2 часа после прилета разбили там самый лучший и самый современый полевой госпиталь и начали спасать жизни гаитянам, которые и понятия, что такое Израиль и с чем его едят, – не имели, да и не факт, что будут иметь и потом.
Вот так "натерли пятак" израильтяне всем мировым мудрецам, которые призывали отменить день памяти тем 6 миллионам, стертым с лица земли нацистами 60 всего лишь лет назад.
И я не могла понять: откуда у них столько великодушия? Как они не посылают всю эту мировую общественность, лениво отчитывающую антисемитов, в тартарары, как у них есть еще желание делать что-то для какой-то другой страны, в которой о них духом не слышали, когда их хаят все, кому не лень? Какого черта они шлют сотни своих солдат и все это оборудование через 3 океана, неужто они думают, что страны поближе не смогут помочь?. Зачем им этот чужой, незнакомый народ, который оказался в беде, когда и них своих бед – выше крыши? И ответ приходит сам собой – за Жизнь. Они летят туда подарить Жизнь, потому что народ, которому столько стран отказывали в помощи, когда его обезумевшие беженцы искали и е находили спасения у врат чужих государств от смерти в концлагерях нацизма, не имеет право равнодушно созерцать чужую беду. Этот народ подарит помощь своими руками, которые раскопают руины и спасут тех, кого можно спасти, и похоронят тех, кого спасти не удалось, сделают сложнейшие операции в невозможных условиях, примут роды, - и все потому, что (для них) ничего, более святого, чем Жизнь, - нет. Любой жизни - своего народа или чужого: израильского солдатика, или островитянина с другого конца земного шара, который не понимает языка своих спасителей, но успокаивается, глядя в их глаза. Они приехали подарить Жизнь. Так они ответили на надругательство над памятью их народа и его истории. Так они почтили погибшие 6 миллионов – подарив жизнь людям другого народа, попавшего в беду.
А я, созерцая все это немного со стороны, почти уже как своя в этой стране, давалась диву и робела перед тем, что только начинала понимать. Как можно пронести себя через тысечялетия гонений и погромов? В чем секрет этого народа? Уж не в том ли, что так ёмко и верно превозносит их "фирменный" тост "лехаим" – "За Жизнь"? Не это ли проносило и сохраняло их народ в течение 5 тысяч лет, и не просто сохраняло, а еще произвело величайших людей своего поколения, где бы этот народ не был вынужден начинать все с нуля? Не это ли является простой формулой их избранности и вечности – свято чтить Жизнь, свою и чужую просто потому, что ничего, более святого, попросту нет.
Делегация с Гаити возвращалась со своей миссии как раз 28 января – в международный день памяти Холокоста, а так же - в день моего вылета назад, в Москву. Я видела их в аэропорту: уставшие люди в несвежей военной форме с черными тенями под глазами, которые светились каким-то особым внутреным светом, – они возращались домой. Конечно же, их встречали. Все СМИ теснились вокруг, армейские и политические шишки были тут же. Хлопнуло шампанское, и зашуршали пластиковые стаканчики (героев встречали скромно, как, впрочем, и везде), и я услышала столь знакомое и столь уместное именно в этой ситуации "Лехаим!" – "За Жизнь!".
Наше расставание с ребятами было нелегким. Я скучала по ним, еще обнимая их, понимая, что пройдет еще немало месяцев до нашей следуйщей встречи..
Самолет набирал высоту, и я смотрела в иллюминатор. Милая Эль-Алевская стюардесса предложила мне вина, и, получив мой пластиковый стаканчик с красным и терпким вином Голанских высот, я салютовала удаляющемуся берегу Тель-Авива, понимая, что эта страна течет у меня в крови, что я ей благодарна за подаренную мне возможность посмотреть на свою жизнь под совсем другим углом, что я безнадежно влюблена в ее непосредственных и добрых людей, в ее историю и в ее простое величие; и я подняла свой стаканчик с простым, емким и древнем тосте - "за жизнь".
Марина Романенко
Иерусалим – Москва
Февраль 2010
Sofia Sokoletsky
: Израиль глазами московской туристки
Здравствуйте,
Меня зовут Марина Романенко, и я хочу поведать вам о своем тур-вояже в Израиль, Землю Обетованную. И не только о нем.
Вообще-то, я не думала, что возьмусь писать такое... эссе, но, если прочтете до конца, вы поймете, почему я не могла не написать.
В Израиль я поехала экспромтом – после трагедии в личной жизни (слава Богу, все живы, меня всего лишь бросил муж ради большой и светлой 22-ух летней любви). Позвонила моя подруга детства – Наташка, с которой мы выросли на одном московском дворе, и, узнав про мой резко изменившийся статус, немедля заявила, что свой 33 день рождения я встречаю не одна с мамой в нашей двушке в суровом московском январе, а как раз у них, на берегу Средиземного моря, где в том же январе плюс 20, где любимые друзья, и вообще... смена обстановки. Так я обнаружила себя на борту Эль-Алевского Боинга по рейсу Москва-Тель-Авив.
Сказать, что меня встретили хорошо, ничего не сказать. Этих людей (Наташку и ее мужа Эдика) я знаю много -много лет, мы родные – как семья, и я чувствовала их природную и столь привычную доброту, как бы окрашенную легким налетом местного менталитета. Трудно объяснить, но здесь люди ходят с душой нараспашку, не боясь: дарят свое расположение – и не только знакомому, а даже чужаку – просто так, "забесплатно". Мне было странно поначалу, все таки мы, москвичи, жуткие снобы, и для меня наприемлемо явиться в гости к друзьям друзей вместе, просто "за компанию". Я упиралась, Наташка настаивала, утверждая, что "Ира и Таль классные ребята", и "Оля и Габи всегда рады новым знакомствам". Я поняла ее только после того, как почувствовала кожей, как тут принимают гостей. После шумных приветствий и обниманий открывается бутылка терпкого красного вина (по ходу дела выясняется, что родом оно с Голанских высот или с Иерусалимского надгорья), из недр холодильника выуживается все его содержимое, ставится чайник (для тех, кто не хочет вина или не может, по причине предстоящего вождения машины, и не только по этой причине, как выяснилось чуть позже), все распологаются, где угодно (только не в креслах гостиной, а на поверхностях, вроде кухонной столешницы, ковра и т.д.), и ведется разговор обо всем на свете; и все очень тепло интересуются, как мне тут, нахожу ли я Израиль интересным и красивым, как мне было в Иерусалиме на экскурсии, и пробрало ли меня у Гроба Господня, и снизошла ли на меня Иерусалимская благодать, подобно которой нет нигде в мире, и что я думаю по поводу местной политики своим непредвзятым мнением, и как я нахожу жутких и наглых израильтян – водителей (ха! Вы не ездили по МКАДу в пятницу вечером!) , и все, все, все… И иврит, и английский, и русский вперемешку; и меня учат обязательным словам, которые прилипают ко мне насмерть, вроде: мазган (кондиционер), беседер (все в порядке, хорошо), "ма питом?!" (с какой радости?!); и хозяйка Ирина, смеясь перевод, ит мне своего мужа Таля, "аборигена", как она его называет, который не смог донести (или я не смогла допонять?) до меня свою мысль по-английски... И вдруг все начинают петь мне "Happy Birthday" и на английском, и на иврите, и Таль даже исполняет в мою честь "День Рождение только раз в году" из «Чебурашки» (знания почерпнуты после просмотра оного мультика с четырехлетней дочуркой, как объясняют мне, хохоча от его акцента, еще паралельно исполнению). И все поднимают бокалы с красным душистым вином, и в мою честь произносятся тосты, которые завершаются емким тостом "Лехаим!" – "За жизнь!", и я краснею и бледнею, понимая, что лучшего тоста в мою честь не произносили никогда и никто, как эта странная и разношерстная, но в тоже время какая-то своя, родная всего за два часа, – компания. И я влюбляюсь в этот тост.
И этот смешной и живой Вавилон вдруг замолкает и становится очень серьезным, когда муж Ольги, кинув взгляд на свой пейджер, срывается с места и бежит, как есть, без куртки и зонта (а шел дождь) , к своему автомобилю, успев крикнуть Эдику, чтоб довез Олю домой. И я с изумлением узнаю, что этот смешной балагур, который травил анекдоты на почти трех языках, виртуозно не растеряв их смысла в переводах, – боевой летчик Израильского ВВС в звании майора, находящийся на "коненут" – боевой готовности, в случае вызова на базу при необходимости. А что может быть за необходимо – в этой маленькой отважной стране, окруженной недругами (да что там – врагами) - можно только догадываться. База находится совсем рядом с тем населенным пунктом, где меня принимают друзья и друзья друзей, и, когда через 20 минут я слышу рев реактивных двигателей над головой, Таль говорит что-то на иврите, я понимаю только одно слово – "Аза" (Газа), и Эдик не успевает перехватить нечто непечатное, вылетевшее у него из-за плотно сжатых, побледневших губ. У каждого в этой стране есть кто-то знакомый, который погиб, ее охраняя. Это трудно понять, в это трудно поверить, но представьте себе: у каждого (!) человека в возрасте около 30 лет здесь есть хотя бы один «кто-то» (друг, сослуживец, знакомый, брат...), кто положил свою жизнь при обороне этого государства, вынужденого ежедневно, ежечасно бороться за безопасность своих граждан и за свое свое право существовать; или – пал жертвой терракта. Но не подумайте, что все так мрачно, жизнь идет своей колеёй, и назавтра все уже как будто забыли о том, как мы подвозили Олю одну домой, как она ждала своего мужа до 2 часов ночи, когда тот вернулся с задания. И о том, как она уже научилась не спрашивать (все равно не ответит): «как?» и «что?». Потому что это - их быт. Это их жизнь, и израильтяне умеют шутить о своем быте с известной долей цинизма. Вы знаете, что у евреев есть даже шутки о Холокосте? Может, в этом - секрет ума и живучести этой удивительной нации: в умении смеяться над собой и своими самыми великими несчастьями?
А на следущий день мы едем в Хайфу и в старый город Акко, и успеваем заехать в волшебное местечко на горе, с которого видно синее Средиземное море: Зихрон-Яаков. А еще через день мы едем на Мертвое море через Иерусалим и заезжаем в этот Город, потому что не заехать – невозможно. И на этот раз мы идем не по святым местам, а просто по кривым улочкам Города и по знаменитому базару Махане-Ехуда, и смотрим на город со смотровой площадки. И на меня нисходит преусловутая "Иерусалимская благодать", о которой меня спрашивали простодушные израильтяне, для которых спросить о самом сокровенном - все равно как пожелать доброго утра, но почему-то это не воспринимается как бестактность, и почему-то им легко отвечать..И, уезжая из Золотого Иерусалима уже ближе к заходу солнца (а ехали мы на Мертвое Море с ночевкой, с палатками), я понимаю суть этого названия: весь город вымощен и облицован светлым камнем, выкорчеванным из самих же Иерусалимских гор, который светится золотом в лучах заходящего солнца.
И я вспоминаю вопрос одного из моих соплеменников (заданный гиду во время Иерусалимской экскурсии) , разочарованно заметившего, что он воображал Иерусалим на более знатной высоте гор; на что гид , усмехнувшись, ответил, что не тот город возвышен, который высок, а тот, который ближе к Господу.
…А по дороге мелькают библейские пейзажи, прямо как с илюстраций к Старому Завету: надгорья, кустистая зелень, пещерки и лесочки, "что-то крымское немного и кавказкое слегка"&, и я осознаю, что каждый квадратный метр этой страны насыщен историей – мировой, великой, порою – страшной историей, а так же – пропитан кровью, совсем недавней для этой исторической земли, кровью, которой всего несколько десятков лет, – кровью людей, боровшихся за право иметь свою Родину и право жить.
Мы разбиваем палатки на горе Мецада; полная луна светит почти неестевственым светом, показывая мне самое низкое место на земном шаре, – Мертвое Море, а за ним горы Иордании, и чуть ближе – призраки библейских Содома и Гоморры и соляные столбы Лота и его жены.. И горит костер, и я курю сигарету, и каждый думает о своем; и я знаю, что думаем мы об одном и том же: что такие минуты редки, а помнят их всю жизнь, что скоро мы расстанемся, так как мои друзья живут на одной из своих Родин, и наличие другой, нашей общей, порой разрывает им сердце; и этот вечный диссонанс, вечная мука русской души кровного еврея, уехавшего сюда «с концами», но «не до конца» уехавшего оттуда. И скоро будут "снова между нами города, взлетные огни аэродрома"&,
но мне жаль только чуточку, потому что вдруг я понимаю, как я горда за моих друзей, которые являются частью этого народа, сумевшего за каких-то 60 лет построить страну в пустыне; народа, не растерявшего себя через тысячелетия и все беды и катастрофы; у которого внутри есть животворная сила, как будто он и в самом деле был избран Господом в пустыне, совсем недалеко от того места, где сейчас догорает наш костер.
Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. А восход солце открывает мне совершено непередаваемый пейзаж: бирюзовое Мертвое Море в окружении розовых гор и белой-пребелой соли, обрамляющей бирюзовые берега. Мы спускаемся к берегу, и я захожу в эти воды, которые всё норовят вытолкнуть меня, как будто в них нет места для инородного тела. Но в конце концов Море позволяет мне опустится в его маслянистую теплую воду, где вместо дна – глыбы соли. Ощущение непередаваемое, его можно только почувствовать, словами его не передать. И это в январе месяце! А тут 25 градусов, тепло, как в Эдеме.
& Из песен Владимира Фридмана
А в последуещие дни Эдик сокрушается, что не сможем поехать в Эйлат – никак не успеваем: ехать далеко, но на один день - нет смысла, а отгул Эдику не дают.. Зато мы гуляем по старому Яффо и Тель-Авиву, и я удивляюсь, как такой небольшой по нашим меркам (400 тыс.) город создает впечатление такого большого из-за своей разношерстности и противоположностей, которыми он кишит: молодой и вместе с этим солидный, современный и исторический, бурлящий и степенный.. Сидящие в «кафушках» израильтяне что-то горячо обсуждают, и я интересуюсь у Наташки, о чем сыр-бор. Послушав их гортанную речь, Наташка хмурится и переводит мне, что в связи грядущим (28 января) всемирным днем памяти Холокоста по всему миру прошла волна антисемитских выступлений разных общественых лиц: дескать, Холокоста вообще не было, и все это – промысел хитрых евреев, маскирующих таким образом собственные грехи перед палестинским народом. И вот, дескать, мужики в кафешке спорят как можно «натереть пятак» мерзким антисемитам по всему миру, да и вообще всему ООН, который дает им право голоса...
А на следуйщий день случилось землетресение в Гаити, и Израиль первым направил на другой конец света бригаду спасателей со всем оборудованием и медикаментами, которые за 2 часа после прилета разбили там самый лучший и самый современый полевой госпиталь и начали спасать жизни гаитянам, которые и понятия, что такое Израиль и с чем его едят, – не имели, да и не факт, что будут иметь и потом.
Вот так "натерли пятак" израильтяне всем мировым мудрецам, которые призывали отменить день памяти тем 6 миллионам, стертым с лица земли нацистами 60 всего лишь лет назад.
И я не могла понять: откуда у них столько великодушия? Как они не посылают всю эту мировую общественность, лениво отчитывающую антисемитов, в тартарары, как у них есть еще желание делать что-то для какой-то другой страны, в которой о них духом не слышали, когда их хаят все, кому не лень? Какого черта они шлют сотни своих солдат и все это оборудование через 3 океана, неужто они думают, что страны поближе не смогут помочь?. Зачем им этот чужой, незнакомый народ, который оказался в беде, когда и них своих бед – выше крыши? И ответ приходит сам собой – за Жизнь. Они летят туда подарить Жизнь, потому что народ, которому столько стран отказывали в помощи, когда его обезумевшие беженцы искали и е находили спасения у врат чужих государств от смерти в концлагерях нацизма, не имеет право равнодушно созерцать чужую беду. Этот народ подарит помощь своими руками, которые раскопают руины и спасут тех, кого можно спасти, и похоронят тех, кого спасти не удалось, сделают сложнейшие операции в невозможных условиях, примут роды, - и все потому, что (для них) ничего, более святого, чем Жизнь, - нет. Любой жизни - своего народа или чужого: израильского солдатика, или островитянина с другого конца земного шара, который не понимает языка своих спасителей, но успокаивается, глядя в их глаза. Они приехали подарить Жизнь. Так они ответили на надругательство над памятью их народа и его истории. Так они почтили погибшие 6 миллионов – подарив жизнь людям другого народа, попавшего в беду.
А я, созерцая все это немного со стороны, почти уже как своя в этой стране, давалась диву и робела перед тем, что только начинала понимать. Как можно пронести себя через тысечялетия гонений и погромов? В чем секрет этого народа? Уж не в том ли, что так ёмко и верно превозносит их "фирменный" тост "лехаим" – "За Жизнь"? Не это ли проносило и сохраняло их народ в течение 5 тысяч лет, и не просто сохраняло, а еще произвело величайших людей своего поколения, где бы этот народ не был вынужден начинать все с нуля? Не это ли является простой формулой их избранности и вечности – свято чтить Жизнь, свою и чужую просто потому, что ничего, более святого, попросту нет.
Делегация с Гаити возвращалась со своей миссии как раз 28 января – в международный день памяти Холокоста, а так же - в день моего вылета назад, в Москву. Я видела их в аэропорту: уставшие люди в несвежей военной форме с черными тенями под глазами, которые светились каким-то особым внутреным светом, – они возращались домой. Конечно же, их встречали. Все СМИ теснились вокруг, армейские и политические шишки были тут же. Хлопнуло шампанское, и зашуршали пластиковые стаканчики (героев встречали скромно, как, впрочем, и везде), и я услышала столь знакомое и столь уместное именно в этой ситуации "Лехаим!" – "За Жизнь!".
Наше расставание с ребятами было нелегким. Я скучала по ним, еще обнимая их, понимая, что пройдет еще немало месяцев до нашей следуйщей встречи..
Самолет набирал высоту, и я смотрела в иллюминатор. Милая Эль-Алевская стюардесса предложила мне вина, и, получив мой пластиковый стаканчик с красным и терпким вином Голанских высот, я салютовала удаляющемуся берегу Тель-Авива, понимая, что эта страна течет у меня в крови, что я ей благодарна за подаренную мне возможность посмотреть на свою жизнь под совсем другим углом, что я безнадежно влюблена в ее непосредственных и добрых людей, в ее историю и в ее простое величие; и я подняла свой стаканчик с простым, емким и древнем тосте - "за жизнь".
Марина Романенко
Иерусалим – Москва
Февраль 2010

Алексей- Почётный Форумчанин

- Возраст : 85

Страна : Район проживания : К. Либкнехта 10
Район проживания : К. Либкнехта 10
Дата регистрации : 2008-04-23 Количество сообщений : 495
Репутация : 489
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
вот еще несколько рассказов михаила юдовского>
Чашки
Я очень боюсь дней рождений. Не чужих, а собственных. И не столько даже дней рождений, сколько подарков. Мне почему-то упорно дарят на день рождения чашки – чайные, кофейные, наборами и в розницу. Люди, видимо, знают, что человек я неуклюжий и регулярно и методично бью посуду. Но – по какому-то роковому стечению обстоятельств – именно чашек я никогда не бил. Дарят же мне исключительно чашки. Хоть бы раз подарили мне тарелку или стакан, которые я покупаю сам и немедленно разбиваю, если до меня их не успеет растюкать кто-нибудь из гостей. Нет, человечество, точно сговорившись, безостановочно дарит мне чашки. Я даже подумал однажды, а не скрыт ли за этим какой-нибудь намек, но слово «чашка» не вызывало во мне никаких ассоциаций. Затем я, правда, вспомнил, немецкое высказывание про наличие «всех чашек в шкафу» и несколько обиделся, но тут же устыдился собственной мнительности – вряд ли дарящие, да еще в день рождения, могли быть столь ироничны.
Чашек же у меня теперь столько, точно я вознамерился напоить чаем весь наш городишко, благо он небольшой. У меня есть белые чашки, черные чашки, синие и бежевые чашки, круглые чашки и даже квадратные чашки, чашки с надписями и чашки с рисунками: с фруктами, с райскими птицами, с кошками и с целым выводком мышей, с портретами каких-то и Бог знает чего деятелей, а также с абстракциями в стиле Миро и Хундертвассера.
На почве этих подарков у меня развилась ярко выраженная чашкофобия. Когда я захожу в магазин, я стараюсь пройти мимо полок с посудой с зажмуренными глазами, а когда у меня с непривычки начинает кружиться голова и я расплющиваю глаза, предо мною неизменно оказывается полочка с ужасающим нагромождением чашек.
Когда мне дарят чашки, ритуал этот сопровождают совершенно невыносимым словоизлиянием.
– Из этой чашки, – таинственно прорекла одна моя знакомая, вручая мне ветхого вида чашку с изгрызенной мышами эмалью, – пил, очевидно, сам Бисмарк.
Обозлившись, я весьма беспочвенно заявил в ответ, что Бисмарк был алкоголик и пил только из рюмок и только шнапс. Знакомая ничуточки не обиделась и, заметив, что я очень остроумен, оставила меня наедине с подарком.
У всех моих чашек предположительно самая невероятная история. Из одной – «по всей видимости» – Карл Маркс выплеснул нечаянно кофе на рукопись «Капитала». Другая, потемневшая изнутри навеки, хранит якобы остатки чая, который герцог Веллингтон не успел допить, ринувшись в атаку под Ватерлоо. Третья... Я не обижаюсь на эти фантазии, я понимаю, что люди хотят меня поразвлечь какой-нибудь дикобразной историей. Они от всего сердца желают мне добра, не догадываясь, что на почве их доброжелательности у меня развивается паранойя.
Иногда я встаю ночью, подхожу к буфету, открываю его, принимаюсь разглядывать чашки, и на меня накатывает почти необоримое желание смахнуть их на пол и утешиться видом их осколков. Но я не делаю этого. Мне не жаль чашек, даже той, с артикулом дешевой китайской фабрики, из которой пил кофе Бисмарк, или этой, пфальцского послевоенного производства, где остались следы недопитого Веллингтоном чая. Но мне почему-то жаль разбить выдуманные людьми истории, которые ничуть не хуже и не менее ощутимы, чем история настоящая, мне не хочется уничтожать их чувственный вымысел с отнюдь не вымышленными чувствами, которые я буду лелеять столь же нежно, как свою паранойю.
Обои
Обои в моей квартире тянутся ко мне куда сильнее, чем к стенам, на которые наклеены. Очевидно, я им дороже. Меня это радует, хотя от подобного тяготения вид квартиры не улучшается. Напротив – гости, приходящие и уходящие, смотрят с весьма озабоченным и несколько удрученным видом на отставшие от стен рулоны бумаги и делают попытки заглянуть за их свернувшиеся края – видимо, с целью обнаружения каких-то жучков.
Я, не заглядывая, совершенно уверен, что никаких жучков там нет. Они бы вымерли от никотина, которым я, словно кришнаиты сандаловыми палочками, обкуриваю мою квартиру. Обои, кстати, могут это засвидетельствовать. Поначалу они были белыми, затем покрылись желтыми никотиновыми пятнами. Когда их перекрасили в желтый, пятна сделались коричневыми. Я уж стал подумывать, не перекрасить ли обои в коричневый цвет, но вовремя спохватился. Наверняка пятна стали бы тогда черными, а то и – прости Господи – фиолетовыми.
Обои мои многострадальны и терпеливы. Иногда мне удается плеснуть на них чаем, а порою даже вымазать вареньем. Я не знаю, как им нравится чай с вареньем – они не жалуются, но и не благодарят.
Зато по ночам, когда звуки обостряются, они начинают шелестеть, как листва на деревьях. За их свернувшимися, с засохшим клеем спинами гуляет ветер, пытаясь оживить их схваченные поры, и в такие минуты я, если не сплю, чувствую себя невольным благодетелем.
Иногда по обоям ползают мухи, обожающие все светлое и особенно желтоватое.
– Прихлопнуть? – обращаюсь я к обоям, сворачивая в толстый рулон газету.
– Попробуй только! – отвечают они. – Пусть ползают. Не надо крови. И живых этих пятен – тоже не надо.
И в самом деле – пятен предостаточно. Помимо никотиновых, чайных и конфитюрных отметин есть на моих обоях роскошные чернильные кляксы от авторучки, которой вздумалось забастовать посреди письма; есть большое белесое пятно от горящей по ночам настольной лампы; есть пятнышки разбрызганной масляной краски, коей мне иногда вздумывается писать картины. Есть всё.
Мои обои впитывают не только цвета, но и запахи. Не одни уловимые – от еды, выпивки и табака, – но и неуловимые, вроде запаха одиночества. Мне кажется, на них остаются следы разговоров, которыми озвучивается порой моя комната, и даже мыслей, невысказанных вслух, а укромно подуманных наедине.
Я гляжу на мои обои и не боюсь ни будущего, ни смерти. Я знаю, что после меня обязательно останется след – никотиновый, чайный, конфитюрный и прочая, прочая, прочая.
Как-то мой приятель, с оттенком брезгливости оглядев мою комнату, посоветовал мне переклеить обои.
– Дураков мало! – таинственно ответил я, повергнув его в легкое недоумение.
Китайский спортивный костюм
У меня в шкафу висит китайский спортивный костюм, и это уже не смешно. Не помню, название какой фирмы обозначено на этом костюме – может, «Пума», а, может, «Фила». Неважно. Эмблема самой претенциозной фирмы уравновесится маленьким незатейливым ярлычком где-нибудь на изнанке: «made in China». Что является своего рода знаком времени.
В России и прочих странах сейчас совершенно напрасно опасаются американской экспансии. Американцы, все же, цивилизованный по-своему народ и размножаются в пределах договоренностей Венской конвенции. Хоть их число и перевалило за триста миллионов, но за китайский миллиард не превалит никогда. Скорее уж американцы перевалят через Кордильеры и рухнут в Тихий океан.
Но суть даже не в этом, а в том, что американцы, при всей их самоуверенности, не берутся за всё подряд. Они могут играть в футбол руками, называть гамбургеры едой и строить демократию в одной отдельно взятой исламской стране. На большее их наивной и скудной в извращенности фантазии не хватает.
Китайцы не таковы. Китайцы неприхотливы, трудолюбивы и упорны. Они берутся за всё. Китайцы производят немецкие спортивные костюмы, швейцарские ручные часы и итальянскую ножную обувь. Их цирковые номера поражают отточенностью элементов и полным отсутствием эмоций. Они один к одному списывают картины старинных европейских мастеров и современных европейских подмастерьев и продают их на английских аукционах. Если внимательно присмотреться к рождественской елке, которую ежегодно доставляют в британскую столицу из Норвегии, то на ней, боюсь, обнаружится надпись: «сделано в Китае».
Да что елка – в скором времени этот штамп разместится на лике всей планеты и станет вторым сооружением рук человеческих, видным из космоса. Первым таковым, как известно, является Великая Китайская Стена.
С тех пор, как китайцы принялись осваивать космос, число летающих тарелок, наблюдаемых с Земли, резко увеличилось. Инопланятене не дураки. Они понимают, что если китайцы взялись за галактику, то им благоразумнее оттуда утареливать поближе к Земле. Пока на их летательных аппаратах, поначалу барахлящих и трещащих по швам, а потом делающихся всё лучше и лучше, не появилось пресловутое тавро китайского происхождения.
Китай нетороплив. Он большой и его много. Его напрасно называют азиатским тигром. Скорее он напоминает – пусть азиатского – слона, который спокойно бредет к своей цели, пока не достигнет ее и не протрубит во весь хобот. И тогда прочие виды и подвиды, населяющие земные джунгли, с запозданием и, быть может, с ужасом весьма удивятся. Китай похож на каплю, которая, сливаясь с мириадами других капель, уже не точит камень, а сносит – внезапно – скалу. Китай бесчеловечен по своeй философии и сути, но бесчеловечность его органична. Китай не злобен – если он и прикончит остальной мир, то сделает это по-восточному (точнее, по-дальневосточному) вежливо, с улыбкой и поклоном. Китай мудр, ибо, будучи древним, не стесняется учиться. Как правило, не на своих ошибках, а на чужих достижениях.
Китайский спортивный костюм, что висит у меня в шкафу, отлично сшит. Он не расползается по швам, не лохматится по краям и не пузырится на коленках. Если бы не пресловутый ярлычок, мало кто отличил бы его от оригинального немецкого костюма. Хотя еще десяток лет назад люди со вкусом лишь посмеялись бы над китайским портяжничеством. Но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Зеркало
Я уже упоминал, кажется, что более всего в собственной квартире раздражает меня зеркало. И не то, что раздражает, а просто бесит. Антипатия эта взаимна. Предметы вообще очень чувствительны к человеческому к ним отношению, а уж зеркало обидчиво, как капризная красавица. Впрочем, о какой красавице я говорю? Поглядели бы вы, что за рожи корчит оно мне, особенно когда я бреюсь! Так ведь и порезаться можно. Ни у одного автора не было еще столь язвительного критика, ни у одного воспитанника более свирепого гувернера.
Стоит мне провести ночь в веселой компании за бутылочкой чего-нибудь познавательного, как наутро эта рефлектирующая гадина принимается шаржировать мой портрет, не упуская ни единого штриха из вчерашнего застолья. Случись у меня дурное настроение, зеркало тут же растиражирует его во всю надутую физиономию, отчего настроение, естественно, не улучшается. Если же оба этих праздника объединить – я имею в виду дурное настроение и попойку накануне – и присовокупить к ним вылезший откуда-то за ночь флюс, то отражение расщедрится на нечто невообразимое: кошмарное, как фильм ужасов, и тошнотворное, как бразильская мелодрама. Веду я себя в таких случаях соответственно: сначала холодею от страха, а потом начинаю рыдать.
Однажды зеркало мое, все же, переборщило в отношении чернго юмора. Я, правда, и сам был хорош – прошлялся всю ночь, неизвестно где, неизвестно с кем и неизвестно, по какому поводу. Наутро, когда мне вздумалось умыться, из зеркала на меня уставилось нечто такое, что не только детям до шестнадцати, но и взрослым видеть не полагается. Я долго вглядывался в это нечто, пораженный бесконечной фантазией Творца, как вдруг оно мне подмигнуло. Хотя сам я – слово даю – был более чем далек от мысли перемигиваться с таким – как бы помягче выразиться – натюрмортом. Сперва я решил, что у меня разыгралась шизофрения, затем мелькнула некстати мысль о белой горячке, которую, по счастью, вытеснила другая, спасительная: я подумал, что это, конечно же, не я, а отражение мое такая безобразная свинья. Я даже решил пристыдить его:
– Тьфу, – сказал я, – противно на тебя смотреть. До омерзения противно. Ты когда-нибудь видело себя в зеркале?
Тут отражение бросило свои подмигивания и ответило:
– Полюбуйтесь, он еще и идиот ко всему.
Потом помолчало и добавило эдак нравоучительно-гнусно:
– На зеркало, знаешь ли, неча пенять, коли рожа...
Как и всякий нормальный человек, я быстро и осмысленно реагирую на критику. Вот и в этот раз я тотчас схватил что потяжелее и запустил в зеркало. Зеркало жалобно звякнуло и осыпалось вниз осколками. Осколки, красиво и серебристо поблескивая, усеяли пол, и один из них произнес, величая меня почему-то в третьем лице множественного числа:
– Они совсем рехнулись. Морды собственной не жалеют.
Тут я перепугался. Я вспомнил вдруг, что нет приметы хуже, чем разбить зеркало. Выскочив в прихожую, я набросил на плечи пальто, обмотался наспех шарфом, пулей вылетел из квартиры и побрел неизвестно куда. На дворе стояла середина октября, дул ветер, забрасывая лицо мое листьями и совсем уж невежливо заплевывая его дождем, я шел, подняв воротник и закрывшись от ветра рукавом, и всё гадал, какая же напасть со мною приключится. Внезапно мысли мои полетели вниз, и я вместе с ними, рухнув в какую-то яму, которых в нашем застраивающимся районе расплодилось великое множество. Яма была бесконечно длинной, но не слишком глубокой, метра в три, и при желании из нее можно было как-нибудь выбраться, но от страха и прочих свалившихся на меня несчастий я совершенно лишился сил.
– Караул! – завопил я. – Спасите! Помогите!
Над моею ямой нарисовалось вдруг исключительно благожелательное, пожилое немецкое лицо в очках.
– Добрый день, – учтиво сказало лицо. – У вас что-то случилось? Могу я чем-то помочь?
– Спасите меня! – по-новой заорал я. – Умоляю!
Некоторое время лицо с недоумением разглядывало меня, затем произнесло со вздохом:
– Удивительно. Просто удивительно, откуда на свете берется столько дураков и почему все они съезжаются именно в Германию.
С этими словами старый негодяй исчез. Пораженный его бездушием, я некоторое время смотрел вверх, а потом совсем уж неприлично завизжал и принялся кататься по дну ямы, оглашая окресности нечеловеческим воем и вполне человеческой нецензурщиной. Пока я эдак катался, на меня пару раз присела сорока, заинтригованная копошащейся кучкой, и пописала сверху собака, забредшая к краю ямы.
Несколько отрезвленный таким обращением я встал и побрел по дну ямы. И в скором времени убедился, что я и в самом деле дурак, импортировавший в Германию собственную дурость: яма поднималось вверх (видимо, она являла собою зародыш будущего подземного гаража), и спустя всего минуту я снова оказался на поверхности земли.
Решив, что на сегодня с меня довольно приключений, я вернулся домой. При моем появлении осколки обеспокоенно зазвенели и зашептались:
– Они вернулись и готовы бить нас по-новой.
Я принес из кухни щетку и совочек, смел их и зачем-то отнес в спальню и положил на кровать.
– Ну, как вы там? – виновато спросил я, склоняясь над ними.
– Во имя всего святого, – взмолились осколки. – Во имя всего святого уберите от нас эту лицезрящую пакость!
Я отодвинул их на краешек кровати, а сам лег с другого боку и попытался заснуть.
– Э-хе-хе, – завздыхали осколки. –У других зеркал жизнь как жизнь. Отражают они большие светлые комнаты, номера-люксы и красивых свежих людей с белозубыми улыбками. А мне... а нам что приходится отражать? Какой-то подлый потолок с гнусными пятнами... Хорошо хоть не эту тусклую личность с той стороны.
Я встал, принес из комнаты газету и накрыл ею осколки – отчасти, чтобы избавить их от лицезрения потолка, отчасти, чтобы заткнуть им рты. Затем снова лег и попытался уснуть, но никак не мог, и всё ворочался и слушал, как рядом со мною, шурша газетой и позвякивая осколками, лежит мое разбитое отражение.
Тетрадка
Не хочу, как завзятый ловелас, хвастать своими похожденями, преувеличивая количество и опуская качество, – но их у меня было множество: больших и маленьких, толстых и тонких, в клеточку и в линеечку. Иногда, забыв о недописанной старой, я бросался в погоню за новой, девственно-чистой, приобретал ее (каюсь!) за деньги и тут же принимался изливать на ее невинные страницы всяческий вздор. Поначалу она трепетно шелестела от изумления, затем, постепенно исписываясь и привыкая ко мне, недовольно шуршала и, наконец, захлопывалась, раз и навсегда отгородившись от меня коленкоровой, глянцевой или просто картонной обложкой, словно хотела сказать: валяй, перечитывай меня, пытайся исправить какие-то ляпсусы и ошибки – главного, сути, уже не исправишь никогда. И мне не оставалось ничего иного, как, вздохнув, положить ее поверх пылящейся стопки ее предшественниц, исписанных свидетельствами моих заблуждений, озарений, восторгов и разочарований, и, загрустив на несколько дней, а то и недель, дожидаться нового толчка и бежать, сломя голову, Бог знает куда в поисках новой тетрадки.
Но вот она, очередная новобрачная, принесена в дом и разложена на брачном ложе письменного стола, с радостным трепетом и невольным страхом ожидающая прикосновения стержня с последующим излиянием чернил. Она не знает еще, что родится от этого союза – здоровый красивый ребенок, который она, стыдливо гордясь, будет показывать пришедшим гостям, или жалкий выкидыш, о котором предпочтет молчать. Всё в ней пока непорочно и чисто, всё может возникнуть в этом зовущем лоне тугих страниц, и сам я становлюсь ей сродни, столь же стыдливо моля Кого-то там наверху о нечаянном и, быть может, незаслуженном чуде.
Мне нужны события и мне нужен герой. Без героя не родятся события, а без событий герой мой зачахнет. Но сначала – герой. Кто он и что он? Как его, в конце концов, зовут? Я начинаю придумывать герою имя, и получается нестерпимая банальность. Я пытаюсь придумать имя позаковыристей, и получается уже не бальность, а пошлость. Я пишу, зачеркиваю, зачеркиваю и снова пишу, часы на шкафу тикают мне в затылок, а тетрадка начинает понемногу пунцоветь от смущения.
– Ты думаешь, раз я бумага, то всё стерплю?
– Куда ты денешься! – отвечаю в запальчивости и принимаюсь писать такое, что прежнее бледнеет в сравнении.
– Если бы ты меня хоть чуточку любил, – шелестит тетрадка, – то никогда бы себе не позволил производить надо мною такие гадости.
– Ах, да помолчи ты, ради Бога!
Тетрадка замолкает, еще какое-то время сносит мои бредовые фантазии, а затем начинает гореть от негодования и стыда. Я поспешно захлопываю ее, бросаюсь в прихожую, натягиваю пальто и шляпу и чуть ли не кубарем выкатываюсь на улицу, где осень сворачивает листву в рыжие колеса и моросящий дождь заплевывает фонарный свет. Я долгу брожу, пытаясь успокоиться, проклиная тот день, когда принес в дом эту чертову тетрадь, которая выпивает из меня все соки да еще поучает, как с нею обращаться.
– Недотрога, – бормочу я под нос, – строптивица безмозглая... Да где бы ты сейчас была без меня?! Пылилась бы дальше на полке под крылышком продавца, а то прибрал бы тебя к рукам какой-нибудь бухгалтер и исписал с ног до головы цифрами – и пикнуть бы не посмела... Что я сам за дурак? Тащу и тащу домой эти тетради и только мучаюсь с ними без конца. Так что нечего на них пенять – я виноват, я, я, я!
И тут мне открывается имя моего героя, просто и беспощадно, со всеми его сомнительными достоинствами и несомненными изъянами, и я бегу домой, нервно отмыкаю дверь ключом, кидаюсь к письменному столу, на котором лежит захлопнутая, не желающая ни знать меня, ни видеть тетрадка, я глажу виновато ее обложку и бормочу:
– Прости... Я всё понял... Я один... Во всем... Только позволь мне... Обещаю тебе, всё будет хорошо.
И она, еще неискушенная, доверяется мне и открывает по-новой свои страницы. И я, взявшись за ручку, поспешно вывожу с чистого листа имя героя: «я».
– Правда? – удивляется тетрадка. – Правда – ты? Ты и есть мой герой?
Я, улыбаясь, киваю в ответ и принимаюсь строчить дальше. Буквы выскакивают из-под шарика стержня, скатываются в слова, слова в фразы. Тетрадка шелестит в ответ страницами, открываясь мне всё больше и больше, покрываясь моими не всегда разумными письменами, и напару с нею мы летим к еще неизвестному нам концу.
Электрический чайник
Большего сноба я в жизни не видывал. Покрытый с ног до головы нержавейкой, он, кажется, воображает себя рыцарем в доспехах, а черную крышку носит так, словно епископ тонзуру. Свой крохотный, невыразительный носик он задрал чуть ли не к потолку. Когда я включаю его в розетку, он сперва пренебрежительно косится на нее, а затем обводит всю комнату с таким видом, точно безо всяких дурацких поцелуев овладел только что Спящей Красавицей. После чего поворачивается в мою сторону и роняет презрительно:
– Что? Чайком решили побаловаться? Или кофейку откушать? Кофе, конечно же, растворимый, а чай – из пакетиков? Тьфу!
Тут он начинает плеваться, шипеть и закипать изнутри, но не от ярости, а всё от того же презрения ко мне.
Когда я наливаю из него кипящую жидкость в чашку, он фыркает и бормочет достаточно громко, чтобы прочая кухонная утварь его слышала:
– Берите! Пользуйтесь! Наслаждайтесь плодами трудов моих! Благодарности от вас всё равно не дождешься, но такая уж моя судьба – отдавать другим всё, ничего не получая взамен.
Даже самую малость он не способен сделать беззвучно – в нем клокочет чувство внутренней справедливости, требующее оценить по достоинству его бескорыстную деятельность. Кастрюли, сковородки и казанки вызывают в нем раздражение.
– Удивительная нечистоплотность, – сокрушается он. – Уж лучше сидеть на одной воде, чем перемазаться в соке невинно убиенного мяса и живьем сваренных овощей!
Большой моралист, он весьма высокого мнения о себе, и маленькая подставка с электрическим шнуром его решительно не устраивает.
– Могли бы соорудить что-нибудь повнушительней, – ворчит он. – Вон, миксер, только и умеет, что тарахтеть да вертеть винтом, точно гулящая девка задом, а гляди, на какую верхотуру взобрался! Нет, господа-товарищи, нет и не будет в этом мире справедливости.
Когда о нем на время забывают, он стоит нахохлившийся, потускневший от обиды, делая вид, что ему наплевать на всех и вся. Но стоит мне захотеть кофе или чаю, как он оживает вновь, наливается самодовольной влагой и свистит через вздернутый нос:
– Берите! Пользуйтесь! Эксплуатируйте! И благодарности вашей мне не надо. Я знаю, в каком несправедливом и подлом мире мы живем. Меня не проведешь. Не проведеш-шшшь!..
Однажды, вконец измучавшись его высокомерием, я приобрел медную джезву и пачку свежемолотого кофе. Я засыпал в джезву кофе, долил воды и поставил на огонь – вернее на электрическую комфорку. Чайник надуто следил за моими манипуляциями, как всегда презрительно вздернув нос. Кофе получился вкуснее обычного, и с тех пор я стал регулярно приготовлять его в джезве. Чайник тускнел от злобы, кряхтел на своей электрической подставке, его наверняка подмывало сказать какую-нибудь нравоучительную гадость, но он молчал, блюдя уязвленное самолюбие. В конце концов, случилось то, что должно было случиться у человека, паталогически не умеющего обращаться с предметами: видимо, я чересчур раскалил плиту, на джезве лопнул обруч, верхняя половинка отскочила от нижней, обдав недоваренным напитком кухонную плиту и чайник. Еще никогда не видел я его таким грязным и таким счастливым. Радость буквально переполняла его, скакала бликами по его металлическим бокам, запачканным кофейной жижей, а весь вид словно говорил: «Вот! Вот оно! Ну, как кофеек? Из турочки-то? Вкусно, небось? То-то. Теперь поняли, что вы все без меня?»
Стараясь на него не глядеть, я залил в него воду, с необычайной виртуозностью он вскипятил ее в одну минуту, и пока я мрачно пил чай, наблюдал за мной. Молча. Со злорадством. С торжеством. С чувством удовлетворенной мести и собственной правоты, от которой ароматнейший чай показался мне вдруг отвратительней, чем помои.
Чашки
Я очень боюсь дней рождений. Не чужих, а собственных. И не столько даже дней рождений, сколько подарков. Мне почему-то упорно дарят на день рождения чашки – чайные, кофейные, наборами и в розницу. Люди, видимо, знают, что человек я неуклюжий и регулярно и методично бью посуду. Но – по какому-то роковому стечению обстоятельств – именно чашек я никогда не бил. Дарят же мне исключительно чашки. Хоть бы раз подарили мне тарелку или стакан, которые я покупаю сам и немедленно разбиваю, если до меня их не успеет растюкать кто-нибудь из гостей. Нет, человечество, точно сговорившись, безостановочно дарит мне чашки. Я даже подумал однажды, а не скрыт ли за этим какой-нибудь намек, но слово «чашка» не вызывало во мне никаких ассоциаций. Затем я, правда, вспомнил, немецкое высказывание про наличие «всех чашек в шкафу» и несколько обиделся, но тут же устыдился собственной мнительности – вряд ли дарящие, да еще в день рождения, могли быть столь ироничны.
Чашек же у меня теперь столько, точно я вознамерился напоить чаем весь наш городишко, благо он небольшой. У меня есть белые чашки, черные чашки, синие и бежевые чашки, круглые чашки и даже квадратные чашки, чашки с надписями и чашки с рисунками: с фруктами, с райскими птицами, с кошками и с целым выводком мышей, с портретами каких-то и Бог знает чего деятелей, а также с абстракциями в стиле Миро и Хундертвассера.
На почве этих подарков у меня развилась ярко выраженная чашкофобия. Когда я захожу в магазин, я стараюсь пройти мимо полок с посудой с зажмуренными глазами, а когда у меня с непривычки начинает кружиться голова и я расплющиваю глаза, предо мною неизменно оказывается полочка с ужасающим нагромождением чашек.
Когда мне дарят чашки, ритуал этот сопровождают совершенно невыносимым словоизлиянием.
– Из этой чашки, – таинственно прорекла одна моя знакомая, вручая мне ветхого вида чашку с изгрызенной мышами эмалью, – пил, очевидно, сам Бисмарк.
Обозлившись, я весьма беспочвенно заявил в ответ, что Бисмарк был алкоголик и пил только из рюмок и только шнапс. Знакомая ничуточки не обиделась и, заметив, что я очень остроумен, оставила меня наедине с подарком.
У всех моих чашек предположительно самая невероятная история. Из одной – «по всей видимости» – Карл Маркс выплеснул нечаянно кофе на рукопись «Капитала». Другая, потемневшая изнутри навеки, хранит якобы остатки чая, который герцог Веллингтон не успел допить, ринувшись в атаку под Ватерлоо. Третья... Я не обижаюсь на эти фантазии, я понимаю, что люди хотят меня поразвлечь какой-нибудь дикобразной историей. Они от всего сердца желают мне добра, не догадываясь, что на почве их доброжелательности у меня развивается паранойя.
Иногда я встаю ночью, подхожу к буфету, открываю его, принимаюсь разглядывать чашки, и на меня накатывает почти необоримое желание смахнуть их на пол и утешиться видом их осколков. Но я не делаю этого. Мне не жаль чашек, даже той, с артикулом дешевой китайской фабрики, из которой пил кофе Бисмарк, или этой, пфальцского послевоенного производства, где остались следы недопитого Веллингтоном чая. Но мне почему-то жаль разбить выдуманные людьми истории, которые ничуть не хуже и не менее ощутимы, чем история настоящая, мне не хочется уничтожать их чувственный вымысел с отнюдь не вымышленными чувствами, которые я буду лелеять столь же нежно, как свою паранойю.
Обои
Обои в моей квартире тянутся ко мне куда сильнее, чем к стенам, на которые наклеены. Очевидно, я им дороже. Меня это радует, хотя от подобного тяготения вид квартиры не улучшается. Напротив – гости, приходящие и уходящие, смотрят с весьма озабоченным и несколько удрученным видом на отставшие от стен рулоны бумаги и делают попытки заглянуть за их свернувшиеся края – видимо, с целью обнаружения каких-то жучков.
Я, не заглядывая, совершенно уверен, что никаких жучков там нет. Они бы вымерли от никотина, которым я, словно кришнаиты сандаловыми палочками, обкуриваю мою квартиру. Обои, кстати, могут это засвидетельствовать. Поначалу они были белыми, затем покрылись желтыми никотиновыми пятнами. Когда их перекрасили в желтый, пятна сделались коричневыми. Я уж стал подумывать, не перекрасить ли обои в коричневый цвет, но вовремя спохватился. Наверняка пятна стали бы тогда черными, а то и – прости Господи – фиолетовыми.
Обои мои многострадальны и терпеливы. Иногда мне удается плеснуть на них чаем, а порою даже вымазать вареньем. Я не знаю, как им нравится чай с вареньем – они не жалуются, но и не благодарят.
Зато по ночам, когда звуки обостряются, они начинают шелестеть, как листва на деревьях. За их свернувшимися, с засохшим клеем спинами гуляет ветер, пытаясь оживить их схваченные поры, и в такие минуты я, если не сплю, чувствую себя невольным благодетелем.
Иногда по обоям ползают мухи, обожающие все светлое и особенно желтоватое.
– Прихлопнуть? – обращаюсь я к обоям, сворачивая в толстый рулон газету.
– Попробуй только! – отвечают они. – Пусть ползают. Не надо крови. И живых этих пятен – тоже не надо.
И в самом деле – пятен предостаточно. Помимо никотиновых, чайных и конфитюрных отметин есть на моих обоях роскошные чернильные кляксы от авторучки, которой вздумалось забастовать посреди письма; есть большое белесое пятно от горящей по ночам настольной лампы; есть пятнышки разбрызганной масляной краски, коей мне иногда вздумывается писать картины. Есть всё.
Мои обои впитывают не только цвета, но и запахи. Не одни уловимые – от еды, выпивки и табака, – но и неуловимые, вроде запаха одиночества. Мне кажется, на них остаются следы разговоров, которыми озвучивается порой моя комната, и даже мыслей, невысказанных вслух, а укромно подуманных наедине.
Я гляжу на мои обои и не боюсь ни будущего, ни смерти. Я знаю, что после меня обязательно останется след – никотиновый, чайный, конфитюрный и прочая, прочая, прочая.
Как-то мой приятель, с оттенком брезгливости оглядев мою комнату, посоветовал мне переклеить обои.
– Дураков мало! – таинственно ответил я, повергнув его в легкое недоумение.
Китайский спортивный костюм
У меня в шкафу висит китайский спортивный костюм, и это уже не смешно. Не помню, название какой фирмы обозначено на этом костюме – может, «Пума», а, может, «Фила». Неважно. Эмблема самой претенциозной фирмы уравновесится маленьким незатейливым ярлычком где-нибудь на изнанке: «made in China». Что является своего рода знаком времени.
В России и прочих странах сейчас совершенно напрасно опасаются американской экспансии. Американцы, все же, цивилизованный по-своему народ и размножаются в пределах договоренностей Венской конвенции. Хоть их число и перевалило за триста миллионов, но за китайский миллиард не превалит никогда. Скорее уж американцы перевалят через Кордильеры и рухнут в Тихий океан.
Но суть даже не в этом, а в том, что американцы, при всей их самоуверенности, не берутся за всё подряд. Они могут играть в футбол руками, называть гамбургеры едой и строить демократию в одной отдельно взятой исламской стране. На большее их наивной и скудной в извращенности фантазии не хватает.
Китайцы не таковы. Китайцы неприхотливы, трудолюбивы и упорны. Они берутся за всё. Китайцы производят немецкие спортивные костюмы, швейцарские ручные часы и итальянскую ножную обувь. Их цирковые номера поражают отточенностью элементов и полным отсутствием эмоций. Они один к одному списывают картины старинных европейских мастеров и современных европейских подмастерьев и продают их на английских аукционах. Если внимательно присмотреться к рождественской елке, которую ежегодно доставляют в британскую столицу из Норвегии, то на ней, боюсь, обнаружится надпись: «сделано в Китае».
Да что елка – в скором времени этот штамп разместится на лике всей планеты и станет вторым сооружением рук человеческих, видным из космоса. Первым таковым, как известно, является Великая Китайская Стена.
С тех пор, как китайцы принялись осваивать космос, число летающих тарелок, наблюдаемых с Земли, резко увеличилось. Инопланятене не дураки. Они понимают, что если китайцы взялись за галактику, то им благоразумнее оттуда утареливать поближе к Земле. Пока на их летательных аппаратах, поначалу барахлящих и трещащих по швам, а потом делающихся всё лучше и лучше, не появилось пресловутое тавро китайского происхождения.
Китай нетороплив. Он большой и его много. Его напрасно называют азиатским тигром. Скорее он напоминает – пусть азиатского – слона, который спокойно бредет к своей цели, пока не достигнет ее и не протрубит во весь хобот. И тогда прочие виды и подвиды, населяющие земные джунгли, с запозданием и, быть может, с ужасом весьма удивятся. Китай похож на каплю, которая, сливаясь с мириадами других капель, уже не точит камень, а сносит – внезапно – скалу. Китай бесчеловечен по своeй философии и сути, но бесчеловечность его органична. Китай не злобен – если он и прикончит остальной мир, то сделает это по-восточному (точнее, по-дальневосточному) вежливо, с улыбкой и поклоном. Китай мудр, ибо, будучи древним, не стесняется учиться. Как правило, не на своих ошибках, а на чужих достижениях.
Китайский спортивный костюм, что висит у меня в шкафу, отлично сшит. Он не расползается по швам, не лохматится по краям и не пузырится на коленках. Если бы не пресловутый ярлычок, мало кто отличил бы его от оригинального немецкого костюма. Хотя еще десяток лет назад люди со вкусом лишь посмеялись бы над китайским портяжничеством. Но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Зеркало
Я уже упоминал, кажется, что более всего в собственной квартире раздражает меня зеркало. И не то, что раздражает, а просто бесит. Антипатия эта взаимна. Предметы вообще очень чувствительны к человеческому к ним отношению, а уж зеркало обидчиво, как капризная красавица. Впрочем, о какой красавице я говорю? Поглядели бы вы, что за рожи корчит оно мне, особенно когда я бреюсь! Так ведь и порезаться можно. Ни у одного автора не было еще столь язвительного критика, ни у одного воспитанника более свирепого гувернера.
Стоит мне провести ночь в веселой компании за бутылочкой чего-нибудь познавательного, как наутро эта рефлектирующая гадина принимается шаржировать мой портрет, не упуская ни единого штриха из вчерашнего застолья. Случись у меня дурное настроение, зеркало тут же растиражирует его во всю надутую физиономию, отчего настроение, естественно, не улучшается. Если же оба этих праздника объединить – я имею в виду дурное настроение и попойку накануне – и присовокупить к ним вылезший откуда-то за ночь флюс, то отражение расщедрится на нечто невообразимое: кошмарное, как фильм ужасов, и тошнотворное, как бразильская мелодрама. Веду я себя в таких случаях соответственно: сначала холодею от страха, а потом начинаю рыдать.
Однажды зеркало мое, все же, переборщило в отношении чернго юмора. Я, правда, и сам был хорош – прошлялся всю ночь, неизвестно где, неизвестно с кем и неизвестно, по какому поводу. Наутро, когда мне вздумалось умыться, из зеркала на меня уставилось нечто такое, что не только детям до шестнадцати, но и взрослым видеть не полагается. Я долго вглядывался в это нечто, пораженный бесконечной фантазией Творца, как вдруг оно мне подмигнуло. Хотя сам я – слово даю – был более чем далек от мысли перемигиваться с таким – как бы помягче выразиться – натюрмортом. Сперва я решил, что у меня разыгралась шизофрения, затем мелькнула некстати мысль о белой горячке, которую, по счастью, вытеснила другая, спасительная: я подумал, что это, конечно же, не я, а отражение мое такая безобразная свинья. Я даже решил пристыдить его:
– Тьфу, – сказал я, – противно на тебя смотреть. До омерзения противно. Ты когда-нибудь видело себя в зеркале?
Тут отражение бросило свои подмигивания и ответило:
– Полюбуйтесь, он еще и идиот ко всему.
Потом помолчало и добавило эдак нравоучительно-гнусно:
– На зеркало, знаешь ли, неча пенять, коли рожа...
Как и всякий нормальный человек, я быстро и осмысленно реагирую на критику. Вот и в этот раз я тотчас схватил что потяжелее и запустил в зеркало. Зеркало жалобно звякнуло и осыпалось вниз осколками. Осколки, красиво и серебристо поблескивая, усеяли пол, и один из них произнес, величая меня почему-то в третьем лице множественного числа:
– Они совсем рехнулись. Морды собственной не жалеют.
Тут я перепугался. Я вспомнил вдруг, что нет приметы хуже, чем разбить зеркало. Выскочив в прихожую, я набросил на плечи пальто, обмотался наспех шарфом, пулей вылетел из квартиры и побрел неизвестно куда. На дворе стояла середина октября, дул ветер, забрасывая лицо мое листьями и совсем уж невежливо заплевывая его дождем, я шел, подняв воротник и закрывшись от ветра рукавом, и всё гадал, какая же напасть со мною приключится. Внезапно мысли мои полетели вниз, и я вместе с ними, рухнув в какую-то яму, которых в нашем застраивающимся районе расплодилось великое множество. Яма была бесконечно длинной, но не слишком глубокой, метра в три, и при желании из нее можно было как-нибудь выбраться, но от страха и прочих свалившихся на меня несчастий я совершенно лишился сил.
– Караул! – завопил я. – Спасите! Помогите!
Над моею ямой нарисовалось вдруг исключительно благожелательное, пожилое немецкое лицо в очках.
– Добрый день, – учтиво сказало лицо. – У вас что-то случилось? Могу я чем-то помочь?
– Спасите меня! – по-новой заорал я. – Умоляю!
Некоторое время лицо с недоумением разглядывало меня, затем произнесло со вздохом:
– Удивительно. Просто удивительно, откуда на свете берется столько дураков и почему все они съезжаются именно в Германию.
С этими словами старый негодяй исчез. Пораженный его бездушием, я некоторое время смотрел вверх, а потом совсем уж неприлично завизжал и принялся кататься по дну ямы, оглашая окресности нечеловеческим воем и вполне человеческой нецензурщиной. Пока я эдак катался, на меня пару раз присела сорока, заинтригованная копошащейся кучкой, и пописала сверху собака, забредшая к краю ямы.
Несколько отрезвленный таким обращением я встал и побрел по дну ямы. И в скором времени убедился, что я и в самом деле дурак, импортировавший в Германию собственную дурость: яма поднималось вверх (видимо, она являла собою зародыш будущего подземного гаража), и спустя всего минуту я снова оказался на поверхности земли.
Решив, что на сегодня с меня довольно приключений, я вернулся домой. При моем появлении осколки обеспокоенно зазвенели и зашептались:
– Они вернулись и готовы бить нас по-новой.
Я принес из кухни щетку и совочек, смел их и зачем-то отнес в спальню и положил на кровать.
– Ну, как вы там? – виновато спросил я, склоняясь над ними.
– Во имя всего святого, – взмолились осколки. – Во имя всего святого уберите от нас эту лицезрящую пакость!
Я отодвинул их на краешек кровати, а сам лег с другого боку и попытался заснуть.
– Э-хе-хе, – завздыхали осколки. –У других зеркал жизнь как жизнь. Отражают они большие светлые комнаты, номера-люксы и красивых свежих людей с белозубыми улыбками. А мне... а нам что приходится отражать? Какой-то подлый потолок с гнусными пятнами... Хорошо хоть не эту тусклую личность с той стороны.
Я встал, принес из комнаты газету и накрыл ею осколки – отчасти, чтобы избавить их от лицезрения потолка, отчасти, чтобы заткнуть им рты. Затем снова лег и попытался уснуть, но никак не мог, и всё ворочался и слушал, как рядом со мною, шурша газетой и позвякивая осколками, лежит мое разбитое отражение.
Тетрадка
Не хочу, как завзятый ловелас, хвастать своими похожденями, преувеличивая количество и опуская качество, – но их у меня было множество: больших и маленьких, толстых и тонких, в клеточку и в линеечку. Иногда, забыв о недописанной старой, я бросался в погоню за новой, девственно-чистой, приобретал ее (каюсь!) за деньги и тут же принимался изливать на ее невинные страницы всяческий вздор. Поначалу она трепетно шелестела от изумления, затем, постепенно исписываясь и привыкая ко мне, недовольно шуршала и, наконец, захлопывалась, раз и навсегда отгородившись от меня коленкоровой, глянцевой или просто картонной обложкой, словно хотела сказать: валяй, перечитывай меня, пытайся исправить какие-то ляпсусы и ошибки – главного, сути, уже не исправишь никогда. И мне не оставалось ничего иного, как, вздохнув, положить ее поверх пылящейся стопки ее предшественниц, исписанных свидетельствами моих заблуждений, озарений, восторгов и разочарований, и, загрустив на несколько дней, а то и недель, дожидаться нового толчка и бежать, сломя голову, Бог знает куда в поисках новой тетрадки.
Но вот она, очередная новобрачная, принесена в дом и разложена на брачном ложе письменного стола, с радостным трепетом и невольным страхом ожидающая прикосновения стержня с последующим излиянием чернил. Она не знает еще, что родится от этого союза – здоровый красивый ребенок, который она, стыдливо гордясь, будет показывать пришедшим гостям, или жалкий выкидыш, о котором предпочтет молчать. Всё в ней пока непорочно и чисто, всё может возникнуть в этом зовущем лоне тугих страниц, и сам я становлюсь ей сродни, столь же стыдливо моля Кого-то там наверху о нечаянном и, быть может, незаслуженном чуде.
Мне нужны события и мне нужен герой. Без героя не родятся события, а без событий герой мой зачахнет. Но сначала – герой. Кто он и что он? Как его, в конце концов, зовут? Я начинаю придумывать герою имя, и получается нестерпимая банальность. Я пытаюсь придумать имя позаковыристей, и получается уже не бальность, а пошлость. Я пишу, зачеркиваю, зачеркиваю и снова пишу, часы на шкафу тикают мне в затылок, а тетрадка начинает понемногу пунцоветь от смущения.
– Ты думаешь, раз я бумага, то всё стерплю?
– Куда ты денешься! – отвечаю в запальчивости и принимаюсь писать такое, что прежнее бледнеет в сравнении.
– Если бы ты меня хоть чуточку любил, – шелестит тетрадка, – то никогда бы себе не позволил производить надо мною такие гадости.
– Ах, да помолчи ты, ради Бога!
Тетрадка замолкает, еще какое-то время сносит мои бредовые фантазии, а затем начинает гореть от негодования и стыда. Я поспешно захлопываю ее, бросаюсь в прихожую, натягиваю пальто и шляпу и чуть ли не кубарем выкатываюсь на улицу, где осень сворачивает листву в рыжие колеса и моросящий дождь заплевывает фонарный свет. Я долгу брожу, пытаясь успокоиться, проклиная тот день, когда принес в дом эту чертову тетрадь, которая выпивает из меня все соки да еще поучает, как с нею обращаться.
– Недотрога, – бормочу я под нос, – строптивица безмозглая... Да где бы ты сейчас была без меня?! Пылилась бы дальше на полке под крылышком продавца, а то прибрал бы тебя к рукам какой-нибудь бухгалтер и исписал с ног до головы цифрами – и пикнуть бы не посмела... Что я сам за дурак? Тащу и тащу домой эти тетради и только мучаюсь с ними без конца. Так что нечего на них пенять – я виноват, я, я, я!
И тут мне открывается имя моего героя, просто и беспощадно, со всеми его сомнительными достоинствами и несомненными изъянами, и я бегу домой, нервно отмыкаю дверь ключом, кидаюсь к письменному столу, на котором лежит захлопнутая, не желающая ни знать меня, ни видеть тетрадка, я глажу виновато ее обложку и бормочу:
– Прости... Я всё понял... Я один... Во всем... Только позволь мне... Обещаю тебе, всё будет хорошо.
И она, еще неискушенная, доверяется мне и открывает по-новой свои страницы. И я, взявшись за ручку, поспешно вывожу с чистого листа имя героя: «я».
– Правда? – удивляется тетрадка. – Правда – ты? Ты и есть мой герой?
Я, улыбаясь, киваю в ответ и принимаюсь строчить дальше. Буквы выскакивают из-под шарика стержня, скатываются в слова, слова в фразы. Тетрадка шелестит в ответ страницами, открываясь мне всё больше и больше, покрываясь моими не всегда разумными письменами, и напару с нею мы летим к еще неизвестному нам концу.
Электрический чайник
Большего сноба я в жизни не видывал. Покрытый с ног до головы нержавейкой, он, кажется, воображает себя рыцарем в доспехах, а черную крышку носит так, словно епископ тонзуру. Свой крохотный, невыразительный носик он задрал чуть ли не к потолку. Когда я включаю его в розетку, он сперва пренебрежительно косится на нее, а затем обводит всю комнату с таким видом, точно безо всяких дурацких поцелуев овладел только что Спящей Красавицей. После чего поворачивается в мою сторону и роняет презрительно:
– Что? Чайком решили побаловаться? Или кофейку откушать? Кофе, конечно же, растворимый, а чай – из пакетиков? Тьфу!
Тут он начинает плеваться, шипеть и закипать изнутри, но не от ярости, а всё от того же презрения ко мне.
Когда я наливаю из него кипящую жидкость в чашку, он фыркает и бормочет достаточно громко, чтобы прочая кухонная утварь его слышала:
– Берите! Пользуйтесь! Наслаждайтесь плодами трудов моих! Благодарности от вас всё равно не дождешься, но такая уж моя судьба – отдавать другим всё, ничего не получая взамен.
Даже самую малость он не способен сделать беззвучно – в нем клокочет чувство внутренней справедливости, требующее оценить по достоинству его бескорыстную деятельность. Кастрюли, сковородки и казанки вызывают в нем раздражение.
– Удивительная нечистоплотность, – сокрушается он. – Уж лучше сидеть на одной воде, чем перемазаться в соке невинно убиенного мяса и живьем сваренных овощей!
Большой моралист, он весьма высокого мнения о себе, и маленькая подставка с электрическим шнуром его решительно не устраивает.
– Могли бы соорудить что-нибудь повнушительней, – ворчит он. – Вон, миксер, только и умеет, что тарахтеть да вертеть винтом, точно гулящая девка задом, а гляди, на какую верхотуру взобрался! Нет, господа-товарищи, нет и не будет в этом мире справедливости.
Когда о нем на время забывают, он стоит нахохлившийся, потускневший от обиды, делая вид, что ему наплевать на всех и вся. Но стоит мне захотеть кофе или чаю, как он оживает вновь, наливается самодовольной влагой и свистит через вздернутый нос:
– Берите! Пользуйтесь! Эксплуатируйте! И благодарности вашей мне не надо. Я знаю, в каком несправедливом и подлом мире мы живем. Меня не проведешь. Не проведеш-шшшь!..
Однажды, вконец измучавшись его высокомерием, я приобрел медную джезву и пачку свежемолотого кофе. Я засыпал в джезву кофе, долил воды и поставил на огонь – вернее на электрическую комфорку. Чайник надуто следил за моими манипуляциями, как всегда презрительно вздернув нос. Кофе получился вкуснее обычного, и с тех пор я стал регулярно приготовлять его в джезве. Чайник тускнел от злобы, кряхтел на своей электрической подставке, его наверняка подмывало сказать какую-нибудь нравоучительную гадость, но он молчал, блюдя уязвленное самолюбие. В конце концов, случилось то, что должно было случиться у человека, паталогически не умеющего обращаться с предметами: видимо, я чересчур раскалил плиту, на джезве лопнул обруч, верхняя половинка отскочила от нижней, обдав недоваренным напитком кухонную плиту и чайник. Еще никогда не видел я его таким грязным и таким счастливым. Радость буквально переполняла его, скакала бликами по его металлическим бокам, запачканным кофейной жижей, а весь вид словно говорил: «Вот! Вот оно! Ну, как кофеек? Из турочки-то? Вкусно, небось? То-то. Теперь поняли, что вы все без меня?»
Стараясь на него не глядеть, я залил в него воду, с необычайной виртуозностью он вскипятил ее в одну минуту, и пока я мрачно пил чай, наблюдал за мной. Молча. Со злорадством. С торжеством. С чувством удовлетворенной мести и собственной правоты, от которой ароматнейший чай показался мне вдруг отвратительней, чем помои.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
АЛЕСЕЮ>
Михаил Юдовский
Родился 13 марта 1966 года в Киеве. Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. С 1988 года - свободный художник. Выставлял свои работы в Украине, России, Европе и Америке. Писать начал относительно поздно - лет в семнадцать, сперва стихи, а затем и прозу. Первая книга, написанная в соавторстве с Михаилом Валигурой ("Приключения Торпа и Турпа"), вышла в 1992 в Киеве (издательство "Эссе"). В том же 1992 году переехал в Германию. Некоторые стихи были опубликованы в немецком русскоязычном журнале "Родная речь", а поэму "Попугай" напечатал американский еженедельник "Новое русское слово". В апреля 2009 года в Украине вышел сборник поэм и стихов.
[img] [/img]
[/img]
Михаил Юдовский
Родился 13 марта 1966 года в Киеве. Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. С 1988 года - свободный художник. Выставлял свои работы в Украине, России, Европе и Америке. Писать начал относительно поздно - лет в семнадцать, сперва стихи, а затем и прозу. Первая книга, написанная в соавторстве с Михаилом Валигурой ("Приключения Торпа и Турпа"), вышла в 1992 в Киеве (издательство "Эссе"). В том же 1992 году переехал в Германию. Некоторые стихи были опубликованы в немецком русскоязычном журнале "Родная речь", а поэму "Попугай" напечатал американский еженедельник "Новое русское слово". В апреля 2009 года в Украине вышел сборник поэм и стихов.
[img]
 [/img]
[/img]
Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Люба, спасибо за оперативную информацию (Сразу чувствуется «немка»). Я понял, что и эти миниатюры того же автора?
Молодец! Он практически о любом предмете может написать роман. Я до него ещё не дорос: могу только о мышах, пауках и о некоторых людях.
Хотя, был один случай. Когда моя дочка была в классе 5-м, им дали задание написать сочинение о каком либо домашнем предмете.
Она была в отчаянии: всё же отличница, и никак нельзя ударить лицом в грязь.
Но, у неё имелся папа – бывший троечник, и вся надежда не него.
Я окинул комнату опытным взглядом и остановился на торшере. У него было три плафона разных цветов, и я на этом построил версии.
Один цвет плафона успокаивал, другой придавал эмоции, третий подталкивал к творческому порыву.
Дочка на меня смотрела, как на ненормального. Потом какой-то цвет плафона её успокоил, другой подсказал, что других вариантов не имеется и придётся смириться, а третий придал порыв к творчеству.
Сочинение было написано на отлично, и все лавры славы достались, почему-то, дочке. Обо мне даже никто не вспомнил. Было обидно.
Молодец! Он практически о любом предмете может написать роман. Я до него ещё не дорос: могу только о мышах, пауках и о некоторых людях.
Хотя, был один случай. Когда моя дочка была в классе 5-м, им дали задание написать сочинение о каком либо домашнем предмете.
Она была в отчаянии: всё же отличница, и никак нельзя ударить лицом в грязь.
Но, у неё имелся папа – бывший троечник, и вся надежда не него.
Я окинул комнату опытным взглядом и остановился на торшере. У него было три плафона разных цветов, и я на этом построил версии.
Один цвет плафона успокаивал, другой придавал эмоции, третий подталкивал к творческому порыву.
Дочка на меня смотрела, как на ненормального. Потом какой-то цвет плафона её успокоил, другой подсказал, что других вариантов не имеется и придётся смириться, а третий придал порыв к творчеству.
Сочинение было написано на отлично, и все лавры славы достались, почему-то, дочке. Обо мне даже никто не вспомнил. Было обидно.

Алексей- Почётный Форумчанин

- Возраст : 85

Страна : Район проживания : К. Либкнехта 10
Район проживания : К. Либкнехта 10
Дата регистрации : 2008-04-23 Количество сообщений : 495
Репутация : 489
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Михаил Юдовский, кстати, прекрасный художник и поэт.
Столько талантов, позавидуешь.
Столько талантов, позавидуешь.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Александр и Лев Шаргородские
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ
-- Ну что мне вам сказать? Вы, конечно, можете не верить, но меня, Розу Абрамовну, во время войны спасли немцы, чтоб они сгорели! Точнее, немецкая бомбардировочная авиация. Если б это чертово Люфтваффе вовремя не налетело - я бы погибла. Думаю, перед вами уникальная личность, которая осталась жить благодаря бомбежке...
Если вы жили в Ленинграде, то должны знать, что до войны я была Джульеттой. Семь лет никому этой роли не поручали, кроме меня.
Перед самой войной Джульетта влюбилась, - нет, не в Ромео, это был подонок, антисемит, а в Натана Самойловича, очередного режиссера,- и должна была родить. Аборты в то время, как, впрочем, и все остальное, были запрещены. Что мне было делать - вы представляете беременную Джульетту на балконе веронского дома Монтекки?.. Нет повести печальнее на свете...
Я кинулась в "абортную" комиссию к ее председателю, удивительному человеку Нине Штейнберг. Она обожала театр, она была "а менч", она б скорее допустила беременного Ромео, чем Джульетту, и дала мне направление на аборт. Оно у меня до сих пор хранится в шкафу, потому что Натан Самойлович, пусть земля ему будет пухом, сказал: "Пусть я изменю искусству, но у меня будет сын. Шекспир не обидится..."
И я играла беременной. Впрочем, никто этого не замечал, потому что Джульетта с животом была худее всех женщин в зале без живота.
Вы можете мне не верить - схватки начались на балконе. Я начала говорить страстно, горячо, почти кричать - мне устроили овацию. Они, идиоты, думали, что я играю любовь, - я играла схватки. Натан Самойлович сказал, что это был мой лучший спектакль... Схватки нарастали, но я все-таки доиграла до конца, добежала до дома падре Лоренцо и бросилась в гроб к Ромео.
Прямо из гроба меня увезли в родильный дом. Измена Натана Самойловича искусству дала нам сына. Чтобы как-то загладить нашу вину перед Шекспиром, мы назвали его Ромео. Но эти черти не хотели записывать Ромео, они говорили, что нет такого советского имени Ромео, и мы записали Рома, Роман - еврейский вариант Ромео...
Я могла спокойно продолжать исполнять свою роль - взлетать на балкон, обнимать, любить, но тут... нет, я не забеременела снова - началась война.
Скажите, почему можно запретить аборты и нельзя запретить войну?
Всегда не то разрешают и не то запрещают.
Натан Самойлович ушел на войну, уже не режиссером, а добровольцем, - у них была одна винтовка на семерых, "и та не стреляла", как он писал в первом письме.
Второго письма не было...
Мы остались с Ромео. Я продолжала играть, но уже не Джульетту. Я играла народных героинь, солдаток, партизанок. И мне дали ружье.
Я была с ружьем на сцене, он в окопе - без. Скажите, это нормальная страна?
Весь наш партизанский отряд на сцене был прекрасно вооружен. У командира был браунинг. В конце мы выкатывали пушку. Вы представляете, какое значение у нас придавалось искусству?
Мы храбро сражались. В конце меня убивали.
Со временем партизанский отряд редел: голод не тетка - пирожка не поднесет. Командира в атаку поднимали всей труппой - у него не было сил встать. Да и мы шли в атаку по-пластунски. Политрука посадили: он так обессилел, что не мог произнести "За Родину, за Сталина!", его хватало только на "За Родину..." - и он сгинул в "Крестах".
Истощенные, мы выходили на сцену без оружия, некому было выкатить пушку, некому было меня убить...
И, чтоб спасти своего Ромео, Джульетта пошла на хлебозавод.
Вы представляете, что такое в голод устроиться на хлебозавод? Это примерно то же, что в мирное время устроиться президентом. Туда брали испытанных коммунистов, несгибаемых большевиков с большой физической силой.
Вы представляете себе Джульетту несгибаемой коммунисткой с железными бицепсами? Но меня взяли, потому что директор, красномордый, несмотря на блокаду, очень любил театр, вернее, артисточек. Вся женская часть нашего поредевшего партотряда перекочевала из брянских лесов на второй хлебозавод. Я могу вам перечислить, кто тогда пек хлеб: Офелия, Анна Каренина, все три чеховские сестры, Нора Ибсена, Укрощенная Строптивая и Джульетта...
Мы все устроились туда с коварной целью - не сдохнуть!
Каждое утро я бросала моего Ромео и шла на завод. Я оставляла его с крысами, моего Ромео, они бегали по нему, но он молчал - он ждал хлеба.
И я приносила его. Я не была коммунисткой и у сердца носила не партийный билет, а корку хлеба. Каждый день я выносила на груди хлеб, я
несла его словно динамит, потому что, если б кто-то заметил, - меня б расстреляли, как последнюю собаку. Чтобы расстрелять, у них всегда есть оружие. Меня бы убили за этот хлеб - но мне было плевать на это. Я несла на своих грудях хлеб, и вахтер, жлоб из Тамбова, ощупывая меня на проходной, не решался прикоснуться к ним. Он знал, что я Капулетти, и сам Ромео не смел касаться их...
И потом, даже если бы он посмел!.. Вы знаете, актрисы умеют защищать свои груди.
Я выходила в ночной город. Я шла по ночному Ленинграду и пахла свежим хлебом.
Я боялась сесть в трамвай, шла кружными путями, Обводным каналом. От меня несло свежим хлебом - и я боялась встретить людей. Я пахла хлебом и боялась, что меня съедят. Даже не то что меня, а хлеб на моей груди.
Я вваливалась ночью в нашу комнату с затемненным окном, доставала хлеб - и у нас начинался пир. Я бывала в лучших ресторанах этого мира - ни в одном из них нет подобного блюда. Ни в одном из них я не ела с таким аппетитом и с таким наслаждением.
Ромео делил хлеб ровно пополам, при свече, довоенной, найденной под кроватью, и не хотел взять от моей порции ни крошки. Он учил меня есть.
-- Жуй медленно, - говорил он, - тогда больше наедаешься.
Наша трапеза длилась часами, в темноте и холоде блокадной зимы.
Часто я оставляла часть хлеба ему на утро, но он не дотрагивался до него, и у нас скопился небольшой запас.
Однажды Ромео отдал все это соседу-мальчишке за еловые иглы.
-- Твоей матери нужны витамины, - сказал этот подонок, - иначе она умрет. Дай мне ваш черствый хлеб, и я тебе дам еловых иголок. Там витамины и хлорофилл. Ты спасешь ей жизнь.
И Ромео отдал.
Он еще не знал, что такое обман.
Я не сказала ему ни слова и весь вечер жевала иглы.
-- Только больше не меняй, - проговорила потом я. - У нас сейчас столько витаминов, что их хватит до конца войны...
Этот подонок сейчас там стал большим человеком - а гройсе пуриц. Он занимается все тем же: предлагает людям иголки - витамины, хлорофилл...
Директор, красномордый жеребец, полнел, несмотря на голод. Какая-то партийная кобылица помогла ему комиссоваться и устроила директором. Он не сводил с меня своих глупых глаз.
-- Тяжело видеть Джульетту у печи, - вздыхал он, - это не для прекрасного пола, все время у огня.
-- Я привыкла, - отвечала я, - играла роли работниц, сталевара.
-- И все же, - говорил он, - вы остались у печи одна. Офелия фасует, Дездемона - в развесочном и все три сестры - на упаковке.
-- Я люблю огонь, - отвечала я.
Я не хотела бросать печь, потому что путь к распаковке лежал через его конюшню...
Однажды, когда я уже кончила работу и, начиненная, шла к проходной, передо мной вдруг вырос кобель и попросил меня зайти в свой кабинет.
На мне был хлеб, это было опаснее взрывчатки.
Он закрыл дверь и нагло, хамски начал ко мне приставать.
Я вас спрашиваю: что мне было делать?
Если б я его ударила - он бы меня выгнал, и мы бы остались без хлеба.
Если б я уступила - он бы все обнаружил, - и это расстрел.
Что бы я ни сделала - меня ждала смерть.
Он пошел на меня.
Отступая, я начала говорить, что такой кабинет не для Джульетты, что здесь противно, пошло... Он наступал, ссылаясь на условия военного времени. Я орала, что привыкла любить во дворцах, в веронских палаццо, и всякую чушь, которая приходила в голову, потом размахнулась и врезала ему оглушительную оплеуху.
Он рассвирепел, стал дик, злобен, схватил меня, сбил с ног, повалил и уже подступал к груди.
Я попрощалась с миром.
И тут - я всегда верила в чудеса! - завыла сирена - дико, оглушительно, свирепо. Сирена воздушной тревоги выла безумно и яростно, - наверно, мне это казалось...
Он вскочил, побежал, путаясь в спущенных штанах, - как все подонки, он боялся смерти, - штаны падали, он подтягивал их на ходу на свою трясущуюся белую задницу, и я засмеялась, захохотала, впервые за всю войну, и прохохотала всю воздушную тревогу, - это, конечно, был нервный приступ: я ржала и кричала "данке шен, данке шен" славному Люфтваффе, хотя это было абсолютным безумием...
До бомбоубежища он не добежал, его ранило по дороге шрапнелью, и вы не поверите - куда! Конечно, война - ужасная штука, но иногда шальная шрапнель - и все!..
Мы ожили - я, Дездемона, Офелия, Укрощенная Строптивая. Мы пели "Марш энтузиастов"...
Он потерял к нам всякий интерес. И к театру. И вообще - к жизни. Он искал смерти - он потерял все, что у него было. Вскоре он отправился на фронт. Рассказывают, что он дрался геройски, - так мстят за святое,
причем, как утверждали, целился он не в голову...
Прорвали блокаду, мы выехали из Ленинграда через Ладогу, в Сибирь, после войны вернулись, жили еще лет двадцать на болоте, а потом вот приехали в Израиль. Я играла на иврите, уже не Джульетту - ее мать, потом кормилицу.
Живем мы втроем - я, Ромео и Джульетта. Вы не поверите - его жену зовут Джульетта.
Сплошной Шекспир...
Я как-то сказала ему, чтобы он женился на женщине, от которой пахнет не духами, а свежим хлебом, - и в кибуце он встретил Джульетту.
Он был гений, мой Ромео - он играл на флейте, знал китайский, водил самолет. И вы не поверите, кем он стал - директором хлебозавода в Холоне. Мне стало плохо - я все еще помнила того. Из этого вот шкафа я достала старинное направление на аборт и стала махать перед его красивым носом.
-- Что это? - спросил он.
-- Направление на аборт! На который я не пошла. Но если б я знала, кем ты станешь!.. Ты же все умеешь - стань кем-нибудь другим. Инженером. Философом. Разводи крокодилов!
Но кто слушает свою маму?
Иногда вечерами он приходит и достает из-под рубашки горячую буханку.
-- Дай мне лучше еловых иголок, - говорю я, - мне необходимы витамины...
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ
-- Ну что мне вам сказать? Вы, конечно, можете не верить, но меня, Розу Абрамовну, во время войны спасли немцы, чтоб они сгорели! Точнее, немецкая бомбардировочная авиация. Если б это чертово Люфтваффе вовремя не налетело - я бы погибла. Думаю, перед вами уникальная личность, которая осталась жить благодаря бомбежке...
Если вы жили в Ленинграде, то должны знать, что до войны я была Джульеттой. Семь лет никому этой роли не поручали, кроме меня.
Перед самой войной Джульетта влюбилась, - нет, не в Ромео, это был подонок, антисемит, а в Натана Самойловича, очередного режиссера,- и должна была родить. Аборты в то время, как, впрочем, и все остальное, были запрещены. Что мне было делать - вы представляете беременную Джульетту на балконе веронского дома Монтекки?.. Нет повести печальнее на свете...
Я кинулась в "абортную" комиссию к ее председателю, удивительному человеку Нине Штейнберг. Она обожала театр, она была "а менч", она б скорее допустила беременного Ромео, чем Джульетту, и дала мне направление на аборт. Оно у меня до сих пор хранится в шкафу, потому что Натан Самойлович, пусть земля ему будет пухом, сказал: "Пусть я изменю искусству, но у меня будет сын. Шекспир не обидится..."
И я играла беременной. Впрочем, никто этого не замечал, потому что Джульетта с животом была худее всех женщин в зале без живота.
Вы можете мне не верить - схватки начались на балконе. Я начала говорить страстно, горячо, почти кричать - мне устроили овацию. Они, идиоты, думали, что я играю любовь, - я играла схватки. Натан Самойлович сказал, что это был мой лучший спектакль... Схватки нарастали, но я все-таки доиграла до конца, добежала до дома падре Лоренцо и бросилась в гроб к Ромео.
Прямо из гроба меня увезли в родильный дом. Измена Натана Самойловича искусству дала нам сына. Чтобы как-то загладить нашу вину перед Шекспиром, мы назвали его Ромео. Но эти черти не хотели записывать Ромео, они говорили, что нет такого советского имени Ромео, и мы записали Рома, Роман - еврейский вариант Ромео...
Я могла спокойно продолжать исполнять свою роль - взлетать на балкон, обнимать, любить, но тут... нет, я не забеременела снова - началась война.
Скажите, почему можно запретить аборты и нельзя запретить войну?
Всегда не то разрешают и не то запрещают.
Натан Самойлович ушел на войну, уже не режиссером, а добровольцем, - у них была одна винтовка на семерых, "и та не стреляла", как он писал в первом письме.
Второго письма не было...
Мы остались с Ромео. Я продолжала играть, но уже не Джульетту. Я играла народных героинь, солдаток, партизанок. И мне дали ружье.
Я была с ружьем на сцене, он в окопе - без. Скажите, это нормальная страна?
Весь наш партизанский отряд на сцене был прекрасно вооружен. У командира был браунинг. В конце мы выкатывали пушку. Вы представляете, какое значение у нас придавалось искусству?
Мы храбро сражались. В конце меня убивали.
Со временем партизанский отряд редел: голод не тетка - пирожка не поднесет. Командира в атаку поднимали всей труппой - у него не было сил встать. Да и мы шли в атаку по-пластунски. Политрука посадили: он так обессилел, что не мог произнести "За Родину, за Сталина!", его хватало только на "За Родину..." - и он сгинул в "Крестах".
Истощенные, мы выходили на сцену без оружия, некому было выкатить пушку, некому было меня убить...
И, чтоб спасти своего Ромео, Джульетта пошла на хлебозавод.
Вы представляете, что такое в голод устроиться на хлебозавод? Это примерно то же, что в мирное время устроиться президентом. Туда брали испытанных коммунистов, несгибаемых большевиков с большой физической силой.
Вы представляете себе Джульетту несгибаемой коммунисткой с железными бицепсами? Но меня взяли, потому что директор, красномордый, несмотря на блокаду, очень любил театр, вернее, артисточек. Вся женская часть нашего поредевшего партотряда перекочевала из брянских лесов на второй хлебозавод. Я могу вам перечислить, кто тогда пек хлеб: Офелия, Анна Каренина, все три чеховские сестры, Нора Ибсена, Укрощенная Строптивая и Джульетта...
Мы все устроились туда с коварной целью - не сдохнуть!
Каждое утро я бросала моего Ромео и шла на завод. Я оставляла его с крысами, моего Ромео, они бегали по нему, но он молчал - он ждал хлеба.
И я приносила его. Я не была коммунисткой и у сердца носила не партийный билет, а корку хлеба. Каждый день я выносила на груди хлеб, я
несла его словно динамит, потому что, если б кто-то заметил, - меня б расстреляли, как последнюю собаку. Чтобы расстрелять, у них всегда есть оружие. Меня бы убили за этот хлеб - но мне было плевать на это. Я несла на своих грудях хлеб, и вахтер, жлоб из Тамбова, ощупывая меня на проходной, не решался прикоснуться к ним. Он знал, что я Капулетти, и сам Ромео не смел касаться их...
И потом, даже если бы он посмел!.. Вы знаете, актрисы умеют защищать свои груди.
Я выходила в ночной город. Я шла по ночному Ленинграду и пахла свежим хлебом.
Я боялась сесть в трамвай, шла кружными путями, Обводным каналом. От меня несло свежим хлебом - и я боялась встретить людей. Я пахла хлебом и боялась, что меня съедят. Даже не то что меня, а хлеб на моей груди.
Я вваливалась ночью в нашу комнату с затемненным окном, доставала хлеб - и у нас начинался пир. Я бывала в лучших ресторанах этого мира - ни в одном из них нет подобного блюда. Ни в одном из них я не ела с таким аппетитом и с таким наслаждением.
Ромео делил хлеб ровно пополам, при свече, довоенной, найденной под кроватью, и не хотел взять от моей порции ни крошки. Он учил меня есть.
-- Жуй медленно, - говорил он, - тогда больше наедаешься.
Наша трапеза длилась часами, в темноте и холоде блокадной зимы.
Часто я оставляла часть хлеба ему на утро, но он не дотрагивался до него, и у нас скопился небольшой запас.
Однажды Ромео отдал все это соседу-мальчишке за еловые иглы.
-- Твоей матери нужны витамины, - сказал этот подонок, - иначе она умрет. Дай мне ваш черствый хлеб, и я тебе дам еловых иголок. Там витамины и хлорофилл. Ты спасешь ей жизнь.
И Ромео отдал.
Он еще не знал, что такое обман.
Я не сказала ему ни слова и весь вечер жевала иглы.
-- Только больше не меняй, - проговорила потом я. - У нас сейчас столько витаминов, что их хватит до конца войны...
Этот подонок сейчас там стал большим человеком - а гройсе пуриц. Он занимается все тем же: предлагает людям иголки - витамины, хлорофилл...
Директор, красномордый жеребец, полнел, несмотря на голод. Какая-то партийная кобылица помогла ему комиссоваться и устроила директором. Он не сводил с меня своих глупых глаз.
-- Тяжело видеть Джульетту у печи, - вздыхал он, - это не для прекрасного пола, все время у огня.
-- Я привыкла, - отвечала я, - играла роли работниц, сталевара.
-- И все же, - говорил он, - вы остались у печи одна. Офелия фасует, Дездемона - в развесочном и все три сестры - на упаковке.
-- Я люблю огонь, - отвечала я.
Я не хотела бросать печь, потому что путь к распаковке лежал через его конюшню...
Однажды, когда я уже кончила работу и, начиненная, шла к проходной, передо мной вдруг вырос кобель и попросил меня зайти в свой кабинет.
На мне был хлеб, это было опаснее взрывчатки.
Он закрыл дверь и нагло, хамски начал ко мне приставать.
Я вас спрашиваю: что мне было делать?
Если б я его ударила - он бы меня выгнал, и мы бы остались без хлеба.
Если б я уступила - он бы все обнаружил, - и это расстрел.
Что бы я ни сделала - меня ждала смерть.
Он пошел на меня.
Отступая, я начала говорить, что такой кабинет не для Джульетты, что здесь противно, пошло... Он наступал, ссылаясь на условия военного времени. Я орала, что привыкла любить во дворцах, в веронских палаццо, и всякую чушь, которая приходила в голову, потом размахнулась и врезала ему оглушительную оплеуху.
Он рассвирепел, стал дик, злобен, схватил меня, сбил с ног, повалил и уже подступал к груди.
Я попрощалась с миром.
И тут - я всегда верила в чудеса! - завыла сирена - дико, оглушительно, свирепо. Сирена воздушной тревоги выла безумно и яростно, - наверно, мне это казалось...
Он вскочил, побежал, путаясь в спущенных штанах, - как все подонки, он боялся смерти, - штаны падали, он подтягивал их на ходу на свою трясущуюся белую задницу, и я засмеялась, захохотала, впервые за всю войну, и прохохотала всю воздушную тревогу, - это, конечно, был нервный приступ: я ржала и кричала "данке шен, данке шен" славному Люфтваффе, хотя это было абсолютным безумием...
До бомбоубежища он не добежал, его ранило по дороге шрапнелью, и вы не поверите - куда! Конечно, война - ужасная штука, но иногда шальная шрапнель - и все!..
Мы ожили - я, Дездемона, Офелия, Укрощенная Строптивая. Мы пели "Марш энтузиастов"...
Он потерял к нам всякий интерес. И к театру. И вообще - к жизни. Он искал смерти - он потерял все, что у него было. Вскоре он отправился на фронт. Рассказывают, что он дрался геройски, - так мстят за святое,
причем, как утверждали, целился он не в голову...
Прорвали блокаду, мы выехали из Ленинграда через Ладогу, в Сибирь, после войны вернулись, жили еще лет двадцать на болоте, а потом вот приехали в Израиль. Я играла на иврите, уже не Джульетту - ее мать, потом кормилицу.
Живем мы втроем - я, Ромео и Джульетта. Вы не поверите - его жену зовут Джульетта.
Сплошной Шекспир...
Я как-то сказала ему, чтобы он женился на женщине, от которой пахнет не духами, а свежим хлебом, - и в кибуце он встретил Джульетту.
Он был гений, мой Ромео - он играл на флейте, знал китайский, водил самолет. И вы не поверите, кем он стал - директором хлебозавода в Холоне. Мне стало плохо - я все еще помнила того. Из этого вот шкафа я достала старинное направление на аборт и стала махать перед его красивым носом.
-- Что это? - спросил он.
-- Направление на аборт! На который я не пошла. Но если б я знала, кем ты станешь!.. Ты же все умеешь - стань кем-нибудь другим. Инженером. Философом. Разводи крокодилов!
Но кто слушает свою маму?
Иногда вечерами он приходит и достает из-под рубашки горячую буханку.
-- Дай мне лучше еловых иголок, - говорю я, - мне необходимы витамины...

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Если интересно, читай здесь
Если интересно, читай здесь
http://mzadornov.livejournal.com/15065.html#cutid1
Задорнов об Америке. Монолог большой, но интересный
Задорнов об Америке. Монолог большой, но интересный

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Эмигрантские записки- Павел Слоб
Советский военный абортарий
Необходимое предисловие.
Наукой все границы стёрты,
на днях читал уже в печати я,
что девки делают аборты
от непорочного зачатия.
Игорь Губерман. Гарики на каждый день.
Если поверить одной маразматичке, которая утверждала, что в СССР секса не было, тогда надо поверить в то, что все женщины СССР были еврейками. Потому что только еврейке, неведомо каким способом, удалось зачать непорочно.
Секса значит нет, а женщины рожают. Мистика!
С другой стороны, если бы все женщины СССР были еврейками, то в СССР не было бы антисемитизма и тогда бы уж точно, Израиль был самой большой страной в мире.
Но ни того, ни другого просто нет. СССР был страной антисемитов, а Израиль находится совершенно в другом месте и территориально меньше любой области всей эсесесерии....
И тем не менее, женщины рожают, предварительно забеременев, а забеременеть женщина может только если предварительно займется сексом Значит в СССР секс все таки был, потому что иным, непорочным, способом забеременеть может только еврейка... Но не будем отвлекаться на истории, придуманными евреями, нас даже не интересует тот факт, что весь остальной мир, несколько миллиардов человек, вот уже пару тысяч лет верят в эти еврейские сказки.
Нас интересует беременность.
Женщины беременели всегда, и беременность женщины не зависит от того, какая власть на дворе, за пределами комнаты, где мужчина и женщина предаются порочной страсти.
Желание быть матерью у женщин было и при Ленине и его военном коммунизме, женщины беременели ради любимого вождя Иосифа Сталина, чтобы родить здоровых карапузов и воспитать их настоящими сталинцами, верными сынами родной партии большевиков и двигателями мировой революции.
Женщины предавались греховной страсти в хрущобах, на целине и на БАМе, куда призывала ехать любимая коммунистическая партия и ее верный помощник комсомол, Женщины девять месяцев носили будущих чекистов – андроповцев и реформаторов советской школы. Единственное чего, наверное, не хотели женщины, чтобы их рожденные дети имели родимые пятна говорливого товарища Горбачева.
Но в то же время, на протяжении всей советской истории (нас интересует только этот период) женщины отказывались рожать. И для этого им нужно было делать аборт, в том случае, если проклятое мужское семя нашло себе уютное место там, где его не ждали.
Черт побери! Женщины делали аборты ради быстрейшего наступления мировой революции, и вместо того, чтобы брать в руки грудного ребенка, брали наганы. Женщины делали аборты ради великого вождя всех народов товарища Сталина, потому что надо было ковать мощь Советского государства, чтобы потом нести революционный свет всему остальному миру.
Абортарий работал во время посевной кукурузы в Архангельской области и во время намерения родной партии повернуть реки Сибири на юг.
Аборты делались по разным причинам при всех умирающих, к счастью народному, одним за другим, генсеках. Аборты делались и тогда, когда в стране объявили перемены, под названием «Перестройка», аборты делались всегда, другое дело, что не всегда аборты делались законно.
Вот об этом мы и поговорим.
Сексуально-коммунистическая секта.
Аборт -- это злое наследие того порядка,
когда человек жил узколичными интересами,
а не жизнью коллектива...
В нашей жизни не может быть разрыва
между личным и общественным.
У нас даже такие, казалось бы, интимные вопросы,
как семья, как рождение детей,
из личных становятся общественными....
Из советских газет.
Леночка и Ленин
Вождь мировой революции, товарищ Ленин, с хитрым калмыцким прищуром, смотрел прямо между расставленных в стороны, стройных, красивых, ног, молодой девушки, лежащей на паре сдвинутых столов, поверх белых простыней. Увиденное им, было куда интереснее, чем у Надежды Константиновны, но не дотягивало до соблазнительных прелестей Инессы Арманд.
Девушка лежащая на столах, смотрела то на гипсовый бюст вождя пролетарской революции, который находился прямо напротив, то на гинеколога Вадима Сергеевича, который раскладывал инструменты, готовясь к тому, чтобы очередной пациентке сделать аборт.
- Послушайте, доктор....
- Да, Леночка? – Вадим Сергеевич, своих постоянных пациенток знал по именам.
- ....может быть в следующий раз вы не будете меня класть ногами к этому бюсту?
- К Ленину, что ли? А вам, что, Леночка четырех абортов мало? Это ведь пятый...
- Вадим Сергеевич, так ведь люблю я секс, понимаете, не могу без него, я запретное яблоко надкусила и пока его полностью не съем, чувствую, что не остановлюсь. Не могу, мой дорогой доктор.
- Вам всего двадцать шесть, вы ни разу не рожали, а делаете аборт за абортом...Это может плохо кончится для вашего здоровья....
- А зачем голытьбу рожать, Вадим Сергеевич? Вот возьмите моих родителей, до сих пор в коммуналке живут в своей Сибири, я уехала на юг – надоели холода. Вот служу в воинской части, а живу в комнате в общежитии. И слава Богу, последние полгода, одна живу. Моя соседка совершила подвиг, вышла таки замуж за прапорщика, но чего ей это стоило? Сейчас живут по соседству, вдвоем....
- Вы очень красивая девушка, Леночка, - говорил доктор омывая руки спиртом, - неужели вы не можете устроить свою судьбу?
- Очень красивая, доктор, вы правы, только офицеришкам нашим, целочек подавай, нецелованных, а женщины опытные, вроде меня, им не нужны. Дураки они доктор, ох дураки, мужики думают, что если девочку возьмут, так будет лучшей женой. Вчера она еще под крылышком у мамы с папой была, а сегодня уже жена прекрасная, так не бывает, доктор.
- Ну как сказать, Леночка, как сказать. Все же, если вы постараетесь, вы можете любого захомутать, моя дорогая.
- Даже вас, доктор? Ну ладно, ладно, не отвечайте, вы мне лучше скажите, как постоянной пациентке.
- Что сказать?
- Вы говорите, что я симпатичная и красивая, но не вижу я по вам, чтобы вы меня хотели...
- Я здесь только доктор, Леночка. Вы представляете себе гинеколога с эрогированным пенисом?
- Я любого мужчину представляю, кроме Ленина.
- Дался вам этот Ленин!
- Так везде Ленин! На работе Ленин, в книжках Ленин, по телевизору тоже Ленин и даже в песнях – Ленин, придешь аборт делать и он тут стоит! Доктор, в следующей раз разверните меня в другую сторону.
- Вы предлагаете, чтобы я смотрел на него?- улыбнулся доктор и сказал: - все, я начинаю. – И достал зеркала.... – А чтобы не было вам скучно, расскажу вам, Леночка историю о Ленине.
- Ой доктор, - поморщилась Леночка, какая же ужасная процедура!
- Терпите или же предохраняйтесь....
- Та какое там предохранение....
Доктор начал использовать пулевые щипцы и продолжил:
- Ну так вот, Леночка, был я тогда совсем молодым врачом и работал в городе Ленина, в больнице.. Была у нас тоже комната похожая на эту, только побольше, на много больше, так чтобы разом, там могли поместиться весь персонал гинекологического отделения. Такая вот большая ленинская комната... И была в этой комнате, потерпите чуток, сейчас будет больнее, потерпите, так вот, была статуя Ленина подаренная неизвестно кем и неизвестно для чего. Статуя в полный рост или даже больше, с указующим перстом. Так что когда все врачи и медсестры садились слушать лекцию о международном положении, наш Ленин тыкал пальцем индивидуально в каждого: «Сколько ты сделал абортов за смену?»
И вот однажды, наш парторг, заметил, что рука нашего вождя варварски обрублена, потерпите, ну потерпите же, Леночка, не в первый же раз...
- Легко вам говорить, доктор.... – кривила и покусывала губы пациентка.
- Понимаете, обрублена кисть. – продолжал доктор не обращая внимание на стоны пациентки. – Сразу же был собран персонал нашего отделения и парторг, почему то обращаясь именно к женщинам: врачам, медсестрам и санитаркам, безапелляционно спросил, кто мол из них украл кисть вождя? Женщины конечно начали возмущаться, а сами все больше краснеют, как спелые помидоры. Большинство-то из них были не замужем, кто уже в разводе, кто вообще замуж не выходил, а за кого выходить-то? За Ваньку-рабочего или за инженера на окладе в сто двадцать рэ? Вы понимаете о чем я, Леночка?
- Да, да, понимаю, доктор, господи, да будь вы все мужики прокляты, чтобы я такую боль еще раз терпела!
- Вы это и в прошлый раз говорили, Леночка. – Возразил доктор и вставил зонд...
- Так лучше себя пальцем самого Ленина удовлетворять, чем такое вот.... А... А! А!.
- Терпите, я же говорю. И вот значит, как вы удачно подметили, Леночка, наш парторг именно на это и намекал, потому что палец на этой статуе был чуть больше размеров фаллоса. А где еще фаллос искусственный взять? Это только на загнивающем Западе есть всякие там секс-магазины, а у нас ленинские статуи. Не знаю, в общем, кому тогда пришла в голову такая оригинальная идея, но когда по требованию парторга, руку восстановили, то новая кисть прожила не более трех дней и снова исчезла. – Доктор вставил расширители и начал вычищать матку молодой девушки.....
- Ой! господи. доктор.....
- Скоро я закончу, моя дорогая, очень скоро.... Так вот, исчезла и третья кисть и даже четвертая, несмотря на то, что наш парторг во все горло орал о диверсии, и подрыве Советской власти. Были приглашены сотрудники компетентных органов для прояснения обстоятельств дела, но конечно же ничего не нашли и никого даже не заподозрили. Закончилось тем, вот, сейчас, сейчас, один момент и я заканчиваю, что статую Ленина убрали совсем. Вместо нее установили бюстик примерно тех же размеров, как за моей спиной. Все. Сейчас я вас протру и можете одеваться. Как всегда полежите пару деньков и можете снова в бой, дорогая Леночка.
- Спасибо, Вадим Сергеевич. – сказала Леночка, встав со столов, убирая за собой окровавленные простыни, и кидая их в мусорное ведро. Одевшись она вышла из Ленинской комнаты общежития прапорщиков и младшего офицерского состава....
Вадим Сергеевич и Феликс Эдмундович Дзержинский.
Вадим Сергеевич любил свою профессию, можно даже сказать, он ее обожал. Сейчас, по прошествии множества лет, он и не сказал бы, почему выбрал специализацию гинеколога, но хорошо запомнил, как на одной из первых лекций профессор медицины Добрынин заявил:
- Что ж товарищи, хочу вас искренне поздравить, вы выбрали самую нужную профессию, потому что, какая бы власть на дворе не была – гинекологи всегда в почете. Где бы вы не жили, в Москве или на Таймыре – гинеколог – это царь и бог! Куда бы вас не забросила бы судьба, будь вы профессором или заключенным в сибирской зоне вы все равно останетесь гинекологом. И главное, вы всегда будете жить хорошо!
Вадим Сергеевич хорошо усвоил этот урок любимого профессора и шел по жизни легко и спокойно. Никогда не нуждался ни в деньгах, ни тем более в связях, одного слова Вадима Сергеевича было достаточно и как по мановению палочки появлялись дефициты и излишества. Не у каждого врача был телефон, а вот Вадим Сергеевич, как и начальник больницы, где он работал, был счастливым обладателем телефонного аппарата. Терапевты и хирурги, детские врачи и медсестры ждали в своих бесконечных очередях. а Вадим Сергеевич не напрягаясь имел все. Консультация нужным людям, тайный аборт, который не был отражен ни в одном журнале учета, такие же тайные лечения пациенток и хоп! У Вадима Сергеевича – новая квартира...
А суть человека такова, что он очень быстро привыкает к хорошему и хочется еще большего. Отдых на Черном море в престижнейших санаториях и домах отдыха, поездки в социалистические страны и связи, связи, связи....Надо только уметь правильно подойти к делу.
Законы, установленные советской властью, тому очень способствовали.
А Вадим Сергеевич был не промах, он знал, как и что надо делать, чтобы все вокруг были довольны и счастливы и самое главное чтобы карман Вадима Сергеевича никогда не пустел, только вот одна беда была, один вопрос не давал покоя.
Было у Вадима Сергеевича увлечение. Кто-то марки собирал, а кто-то радиоприемники, кто-то модели самолетов конструировал, а кто-то календарики собирал многими тысячами. А Вадим Сергеевич увлекся фотографией. И не просто фотографией, ему не интересно было бродить по лесам и фотографировать природу, часами ждать пока пробежит заяц, для того, чтобы сделать снимок, ему не нравилось фотографировать небо или героев труда. У него было специфическое хобби. Он пристрастился к фотографированию предмета своей работы. Впервые такие снимки он увидел на одном научном семинаре и в темноте зала, когда докладчик вел указкой по малым и большим половым губам на огромной фотографии, вдруг сам снимок, показался, тогда еще молодому Вадиму Сергеевичу, эротичным и он даже почувствовал напряжение внизу живота.
Когда семинар подошел к концу, Вадим Сергеевич уже знал, что он будет фотографировать.
Именно из за этого пришлось расстаться с местом работы в клинике города Ленина и переехать на периферию..... Но нет худа без добра, как говорил профессор Добрынин: гинеколог – везде гинеколог. Подпольный аборт стоил дорого, Вадим Сергеевич предлагал сделать болезненную процедуру дешевле, с условием, если ему позволено будет сделать пару снимков. Не все соглашались, но тем не менее, к моменту описываемых событий в коллекции Вадима Сергеевича было несколько тысяч фотографий, которые он никому не показывал. Никогда. По многим причинам, в том числе потому что боялся быть осмеянным.
и сейчас, когда он спиртом протирал инструменты и готовился к следующему аборту, фотоаппарат ФЭД – Феликс Эдмундович Дзержинский был с ним, висел на спинке стула и ждал очередную пациентку.
«Если бы Дзержинский знал, ЧТО я буду фотографировать фотоаппаратом названным в его честь, то наверное, перестрелял бы всех гинекологов еще тогда, в двадцатых, или же сменил имя и фамилию, а может быть не работал бы главным чекистом…» - думал Вадим Сергеевич и улыбался….
Леночка была не первый раз и еще как только легла на сдвинутые столы сразу спросила о фотоаппарате, в конце концов, заплатит на пять рублей меньше. Вадим Сергеевич не обеднеет, а вот коллекцию свою пополнит., а в коридоре еще пятнадцать женщин: холостячки и замужние, кто был постоянной клиенткой, а кто пришел в первый раз.
Вадим Сергеевич уже сделал четыре аборта, а впереди работы на всю ночь. Утром он уедет в город на первом автобусе, придя домой позвонит на работу и возьмет отгул, будет отсыпаться, потому что за ночь халтуры, как он называл свои левые заработки, получил денег на много больше, чем за месяц честной работы в больнице. Он скинет пиджак во внутреннем кармане которого, будет почти триста рублей, бережно поставит на стол фотоаппарат, с пленкой полной новыми фотографиями, примет горячий душ и ляжет спать.
Жизнь хороша! Особенно если ты гинеколог!
Майор Бурило и сексуально-коммунистическая секта.
Никто не любил майора и никто не знал почему. То ли потому что у него была такая странная фамилия, то ли оттого, что брился он до зеркального блеска, или же потому, что никогда не нарушал никаких правил, всегда имел выглаженную форму, от него всегда пахло хорошим одеколоном и он никогда не ругался матом. Более того, майор Бурило никогда не пил. Может быть именно поэтому все считали его чужим? Раз не пьет, значит или больной, что никак не скажешь по отменному виду майора, либо, что более вероятно – стукач, потому что, только стукачу надо иметь всегда трезвую голову, чтобы запоминать и потом доносы писать на своих сослуживцев.
Как бы там ни было, майора Бурило терпеть не могли, ни подчиненные ни начальство, и это самое начальство, желая хоть как то отыграться на майоре, ставило его в наряды, запихивало его туда по любому поводу, особенно в гарнизонные патрули. Это летом хорошо – тепло, ночь несколько часов, карауль себе матросиков возле казармы, да лови их по одному, но в эту июльскую ночь, майор Бурило, решил изменить постоянный маршрут, ему надоело торчать возле казарм, и он решил пройтись немного в стороне, ближе к санчасти, к офицерскому общежитию, к общежитию младшего офицерского состава, почему он решил пойти именно туда, спросите майора, он никогда бы и не сказал. просто чуйка сработала. если в другие дни, патрульные отлавливали по одному – два самоходчика, то майор Бурила набивал ими всю комендатуру. У него чутье было на тех матросов, которые хотели ночью посетить злачные гарнизонные места, где можно напиться, да за сиську подержаться. А тут майора Бурило повело в сторону. Бывшие с ним в патруле двое матросов, переглянулись, но ничего не сказали, пошли за командиром патруля.
Все было хорошо, все было таким, как тысячу раз до этого, только одно смутило бдительного майора – горящий свет в ленинской комнате общежития. Вообще-то это был старый барак, названный общежитием, разделенный на клетушки - комнаты и ленинская комната была самым большим помещением в нем: аж три окна и окна были зашторены и свет лился во всю, при чем сильный, яркий свет, создавалось такое впечатление, что там горит на много больше ламп чем должно было быть. Майор посмотрел на часы – два часа ночи!
«Что то здесь не то!» - подумал майор и направился к общежитию. Он медленно, крадучись, обошел, недавно засыпанный фонтан, где два молодых летчика поломали себе ноги. А летчики надо сказать товар штучный, дорогой, государство на них денег ухлопало миллионы, они должны быть живыми и главное абсолютно здоровыми. А в тот раз, как получилось? В гарнизоне, как обычно, летом, не было воды и летчики, ночью, придя с полетов, бухнулись с разбега в фонтан, в котором, к этому времени уже не было воды: результат – госпиталь и указание командующего засыпать проклятый фонтан к такой-то матери.
Майор Бурило, а за ним и двое матросов подошли к окнам ленинской комнаты и пытались заглянуть внутрь... Этого не удалось сделать ни у первого окна, ни у второго, и только у третьего майору удалось заглянуть внутрь, там, где штора не плотно закрывала окно, ужасная картина предстала перед его глазами! Он видел стоящий бюст Ленина, раздвинутые женские ноги и немолодого мужчину в странном прозрачном, синего цвета халате. Увиденное так поразило майора, что он встал, как вкопанный и несколько минут не мог прийти в себя, а матросы, зная нрав своего начальника, ходили с ним в патруле не в первый раз, не решились не то что спросить, а просто потревожить товарища майора.
Майор Бурило готов был увидеть многое, но странные оргии советских граждан, мужчин и женщин, в ленинской комнате, напомнили ему шабаши ведьм и сатанистов в Средневековье, о которых он как то читал в книге по истории инквизиции.
Может быть это новая сексуально-коммунистическая секта, о которой никто, ничего не знает? Тогда, майору Бурило нужно действовать оперативно, чтобы поймать всех с поличным. Явно, что их троих: майора и двух матросов, здесь будет мало. Даже если двоих поставить возле окон, то все равно, кто то должен зайти внутрь и поймать участников странной оргии с поличным.
А с другой стороны, время не ждет, неизвестно, как долго продлится этот шабаш, и как его участники будут покидать это собрание..... Что же делать, какое решение принять, Боже мой, здесь, в углу, так мало видно, что же делать, как поступить, стоит взять на себя ответственность или же переложить ее на плечи других?
Пока майор Бурило думал, женщина лежавшая перед бюстом Ленина встала и на ее место пришла другая.
То, что в следующее мгновение увидел начальник патруля, нельзя назвать удивлением, нельзя было назвать шоком, нельзя вообще назвать каким либо словом, потому что увиденное им повергло майора не просто в ужас, шок, трепет, ненависть, разочарование и боль, не просто в бешенство и ярость, это было нечто большее, пострашнее всего, что знало человечество.
Майор видел, как его собственная жена проходит к столу, стеллит простыни, раздевается оставляя на себе только бюстгальтер и ложится на стол, так же, перед бюстом Ленина и раздвигает ноги, а мужчина протягивает руки туда, где до этого были руки только самого майора, Начальник патруля не мог себе представить, чтобы и его жена, такая красивая молодая женщина, двадцати семи лет, мать двоих маленьких детей, жена коммуниста, стала участницей подпольной сексуально-коммунистической секты поклоняющейся Ленину раздвиганием ног.... Майор видел, как человек сделал шаг назад, поднял фотоаппарат, сделал снимок во время которого помещение ленинской комнаты осветилось яркой вспышкой, а дальше, майор уже ничего не помнил, он летел в окно разбивая его своим грузным телом, кричал, рычал, матерился и ломал все подряд. Ломалась рама, падали осколки стекла, разрезая лицо и руки майора, но он не чувствуя боли и стекавшей по нему крови, несся к своей жене, которая верещала во все горло, запрокинув голову назад и видела произошедшее в перевернутом виде, но так и продолжала лежать раздвинув ноги, а человек, который только что делал снимок с ужасом отскочил к другому окну, нервно ища ручку, за которую можно дернуть, чтобы открыть окно....
=Ууууббббъъъъюююююю!!!!!!!!!!!! – неслось по всему общежитию – майор Бурило подскочил к своей жене и с ходу засадил ей кулаком: -Сссссуууукккккааа!!!!!!!
Следующей его мишенью должен был стать человек, который фотографировал его супругу, лежавшую на столе. Майор не видел, как открылась дверь, как в нее заглянули молодые женщины и тоже начали орать, но только от ужаса увиденной ими картины.
Большинство из тех, кто пришел сюда, на аборт, совершенно не желали, чтобы их имена где либо и когда либо афишировались, тем более в таком деле. В общаге начался такой переполох, что казалось грянула атомная война. Женщины побежали к выходу, крича во все горло, отталкивая друг друга, стремясь первыми покинуть стены общежития, В дверях, между теми, кто тихо и спокойно сидел в ожидании приема, случилась потасовка за право выскочить первыми, а те кто были сзади орали:
- Так дайте же пройти, сучки недоделанные! Дайте пройти!
Матросы стоявшие под окнами и совершенно не ожидавшие такого развития событий стояли как вкопанные и только женские крики в дверях, привели их в чувства, и они, побежали ко входу, а там, на улицу, выбегали женщины, одна за другой...
Нельзя сказать, чтобы Вадим Сергеевич не готовил себя к таким ситуациям. Подпольный аборт – всегда был наказуем, и он, Вадим Сергеевич прекрасно знал, что нечто подобное, может произойти и если не произошло ранее, за пару десятков лет его практики, то он может назвать себя счастливчиком. Некоторые его коллеги горели на подпольных абортах сразу, некоторые чуть позже, а ему удалось продержаться так долго. А сейчас и его время пришло, поэтому, самое главное, не дастся им в руки. Нужно уходить, убежать, и от этого разъяренного военного и от других, кто может прийти ему на подмогу. Некогда думать, надо уходить и главное, скрыться, главное, чтобы не взяли! Вадим Сергеевич кинулся сначала к одному окну, дергая за ручку, потом почувствовал дыхание свежего воздуха в момент отрезвившего врача и гинеколог вылетел в разбитое окно, упал, поднялся, побежал, на ходу сдернул с себя халат и кинул его в сторону.
Вадим Сергеевич долго готовился к такому моменту, плевать на дорогие инструменты, плевать на фотоаппарат с ценными кадрами, ах, какие там были кадры! Все это дело наживное, главное ноги унести, а это сделать можно только в одном случае, если не бежать как сумасшедший, а думать, думать и еще раз думать! В этот момент Вадим Сергеевич, почувствовал себя партизаном совершившим диверсию в фашистском борделе и нужно было скрыться, потому как у фрицев отношение к партизаном было веревко-ласкательное. Повесят и дело с концом.
Остановившись в ближайших кустах Вадим Сергеевич оглянулся, никто за ним не гнался, наоборот же, на улице, появлялось все больше и больше народу, а выскочившие из комнат мужики стояли в одних трусах и всеми силами держали взбесившегося майора. Тот орал, как бешенный, что то о сексе, сектах и коммунистах, о жене суке-подколодной и проклятии на весь род людской. Через пару минут ему в лицо плеснули кружку воды, но это не помогло, тогда вылили на него целое ведро и только тогда он начал немного успокаиваться и затихать, но все еще вертел выпученными глазами... Не отпуская его из своих рук, мужики потащили майора к комендатуре, вслед за ними шли ничего не понимающие, но шокированные матросы.
Вадим Сергеевич вышел из кустов, отряхнулся и направился прямо к общежитию, где только что делал аборты. «Темнее всего под лампой» - рассуждал он, и его именно здесь, искать не будут. Могут поднять тревогу, пошлют матросов на поиски преступника, могут даже перекрыть въезд и выезд, но никто не подумает, что в этом же общежитии он и будет скрываться.. Вадим Сергеевич спокойно вошел в здание, как входил в него много раз до этого, прошел мимо ленинской комнаты, борясь с искушением заглянуть внутрь и забрать хотя бы фотоаппарат, но сдержав себя, он прошел дальше, мимо комнат, с открытыми дверьми, из которых выглядывали жильцы, он вежливо здоровался, успокаивал всех, и дойдя до комнаты под номер семнадцать открыл дверь и вошел внутрь. «Теперь все подумают, кто не в курсе, что я очередной Леночкин хахаль». – подумал врач.
- Леночка, я у вас останусь, дорогая… - То ли спрашивал, то ли утверждал Вадим Сергеевич
Девушка резко села на кровати, скривилась от боли внизу живота и просто сказала:.
- А это вы.... Застукали вас, Вадим Сергеевич?
- Бывает, вы же знаете, в нашей профессии без риска никуда..... Так я остаюсь?
- А кто мне еще аборты делать будет по быстрому? – Задала встречный вопрос Леночка. – Оставайтесь, но учтите, делать будете бесплатно.
Вадим Сергеевич взвесил все возможные потери от такого соглашения и возможные доходы и сразу же согласился:
- Договорились, моя дорогая.
- К себе не зову, мне еще плохо, а вот на диван можете прилечь.....
ХХХХ
В гарнизоне устроили большое разбирательство, дело о подпольных абортах еще несколько лет обсуждалась на скамейках и лавочках никогда не работавшими офицерскими женами.
Жену майора Бурило отвезли в больницу с переломом челюсти, а самого майора препроводили в госпиталь Черноморского флота и через некоторое время списали под чистую, по причине его легкого помешательства.
А матросы, которым в руки попал фотоаппарат, в военной фотолаборатории проявили пленки и сделали множество фотографий, которые потом, долго находили у матросов под матрасами, в подушках, за батареями отопления и даже в оружейной комнате. Фотографии отбирались начальством, но они появлялись снова и снова. Проявленная пленка служила ни одному поколению призывников – срочников... Но это уже другая история.
А Вадим Сергеевич резко взвинтив цены на свои услуги еще долго пользовал гарнизонных залетчиц Никто из женщин и не подумал рассказать следственной комиссии о приезжающем пару раз в месяц гинекологе.
Советский военный абортарий
Необходимое предисловие.
Наукой все границы стёрты,
на днях читал уже в печати я,
что девки делают аборты
от непорочного зачатия.
Игорь Губерман. Гарики на каждый день.
Если поверить одной маразматичке, которая утверждала, что в СССР секса не было, тогда надо поверить в то, что все женщины СССР были еврейками. Потому что только еврейке, неведомо каким способом, удалось зачать непорочно.
Секса значит нет, а женщины рожают. Мистика!
С другой стороны, если бы все женщины СССР были еврейками, то в СССР не было бы антисемитизма и тогда бы уж точно, Израиль был самой большой страной в мире.
Но ни того, ни другого просто нет. СССР был страной антисемитов, а Израиль находится совершенно в другом месте и территориально меньше любой области всей эсесесерии....
И тем не менее, женщины рожают, предварительно забеременев, а забеременеть женщина может только если предварительно займется сексом Значит в СССР секс все таки был, потому что иным, непорочным, способом забеременеть может только еврейка... Но не будем отвлекаться на истории, придуманными евреями, нас даже не интересует тот факт, что весь остальной мир, несколько миллиардов человек, вот уже пару тысяч лет верят в эти еврейские сказки.
Нас интересует беременность.
Женщины беременели всегда, и беременность женщины не зависит от того, какая власть на дворе, за пределами комнаты, где мужчина и женщина предаются порочной страсти.
Желание быть матерью у женщин было и при Ленине и его военном коммунизме, женщины беременели ради любимого вождя Иосифа Сталина, чтобы родить здоровых карапузов и воспитать их настоящими сталинцами, верными сынами родной партии большевиков и двигателями мировой революции.
Женщины предавались греховной страсти в хрущобах, на целине и на БАМе, куда призывала ехать любимая коммунистическая партия и ее верный помощник комсомол, Женщины девять месяцев носили будущих чекистов – андроповцев и реформаторов советской школы. Единственное чего, наверное, не хотели женщины, чтобы их рожденные дети имели родимые пятна говорливого товарища Горбачева.
Но в то же время, на протяжении всей советской истории (нас интересует только этот период) женщины отказывались рожать. И для этого им нужно было делать аборт, в том случае, если проклятое мужское семя нашло себе уютное место там, где его не ждали.
Черт побери! Женщины делали аборты ради быстрейшего наступления мировой революции, и вместо того, чтобы брать в руки грудного ребенка, брали наганы. Женщины делали аборты ради великого вождя всех народов товарища Сталина, потому что надо было ковать мощь Советского государства, чтобы потом нести революционный свет всему остальному миру.
Абортарий работал во время посевной кукурузы в Архангельской области и во время намерения родной партии повернуть реки Сибири на юг.
Аборты делались по разным причинам при всех умирающих, к счастью народному, одним за другим, генсеках. Аборты делались и тогда, когда в стране объявили перемены, под названием «Перестройка», аборты делались всегда, другое дело, что не всегда аборты делались законно.
Вот об этом мы и поговорим.
Сексуально-коммунистическая секта.
Аборт -- это злое наследие того порядка,
когда человек жил узколичными интересами,
а не жизнью коллектива...
В нашей жизни не может быть разрыва
между личным и общественным.
У нас даже такие, казалось бы, интимные вопросы,
как семья, как рождение детей,
из личных становятся общественными....
Из советских газет.
Леночка и Ленин
Вождь мировой революции, товарищ Ленин, с хитрым калмыцким прищуром, смотрел прямо между расставленных в стороны, стройных, красивых, ног, молодой девушки, лежащей на паре сдвинутых столов, поверх белых простыней. Увиденное им, было куда интереснее, чем у Надежды Константиновны, но не дотягивало до соблазнительных прелестей Инессы Арманд.
Девушка лежащая на столах, смотрела то на гипсовый бюст вождя пролетарской революции, который находился прямо напротив, то на гинеколога Вадима Сергеевича, который раскладывал инструменты, готовясь к тому, чтобы очередной пациентке сделать аборт.
- Послушайте, доктор....
- Да, Леночка? – Вадим Сергеевич, своих постоянных пациенток знал по именам.
- ....может быть в следующий раз вы не будете меня класть ногами к этому бюсту?
- К Ленину, что ли? А вам, что, Леночка четырех абортов мало? Это ведь пятый...
- Вадим Сергеевич, так ведь люблю я секс, понимаете, не могу без него, я запретное яблоко надкусила и пока его полностью не съем, чувствую, что не остановлюсь. Не могу, мой дорогой доктор.
- Вам всего двадцать шесть, вы ни разу не рожали, а делаете аборт за абортом...Это может плохо кончится для вашего здоровья....
- А зачем голытьбу рожать, Вадим Сергеевич? Вот возьмите моих родителей, до сих пор в коммуналке живут в своей Сибири, я уехала на юг – надоели холода. Вот служу в воинской части, а живу в комнате в общежитии. И слава Богу, последние полгода, одна живу. Моя соседка совершила подвиг, вышла таки замуж за прапорщика, но чего ей это стоило? Сейчас живут по соседству, вдвоем....
- Вы очень красивая девушка, Леночка, - говорил доктор омывая руки спиртом, - неужели вы не можете устроить свою судьбу?
- Очень красивая, доктор, вы правы, только офицеришкам нашим, целочек подавай, нецелованных, а женщины опытные, вроде меня, им не нужны. Дураки они доктор, ох дураки, мужики думают, что если девочку возьмут, так будет лучшей женой. Вчера она еще под крылышком у мамы с папой была, а сегодня уже жена прекрасная, так не бывает, доктор.
- Ну как сказать, Леночка, как сказать. Все же, если вы постараетесь, вы можете любого захомутать, моя дорогая.
- Даже вас, доктор? Ну ладно, ладно, не отвечайте, вы мне лучше скажите, как постоянной пациентке.
- Что сказать?
- Вы говорите, что я симпатичная и красивая, но не вижу я по вам, чтобы вы меня хотели...
- Я здесь только доктор, Леночка. Вы представляете себе гинеколога с эрогированным пенисом?
- Я любого мужчину представляю, кроме Ленина.
- Дался вам этот Ленин!
- Так везде Ленин! На работе Ленин, в книжках Ленин, по телевизору тоже Ленин и даже в песнях – Ленин, придешь аборт делать и он тут стоит! Доктор, в следующей раз разверните меня в другую сторону.
- Вы предлагаете, чтобы я смотрел на него?- улыбнулся доктор и сказал: - все, я начинаю. – И достал зеркала.... – А чтобы не было вам скучно, расскажу вам, Леночка историю о Ленине.
- Ой доктор, - поморщилась Леночка, какая же ужасная процедура!
- Терпите или же предохраняйтесь....
- Та какое там предохранение....
Доктор начал использовать пулевые щипцы и продолжил:
- Ну так вот, Леночка, был я тогда совсем молодым врачом и работал в городе Ленина, в больнице.. Была у нас тоже комната похожая на эту, только побольше, на много больше, так чтобы разом, там могли поместиться весь персонал гинекологического отделения. Такая вот большая ленинская комната... И была в этой комнате, потерпите чуток, сейчас будет больнее, потерпите, так вот, была статуя Ленина подаренная неизвестно кем и неизвестно для чего. Статуя в полный рост или даже больше, с указующим перстом. Так что когда все врачи и медсестры садились слушать лекцию о международном положении, наш Ленин тыкал пальцем индивидуально в каждого: «Сколько ты сделал абортов за смену?»
И вот однажды, наш парторг, заметил, что рука нашего вождя варварски обрублена, потерпите, ну потерпите же, Леночка, не в первый же раз...
- Легко вам говорить, доктор.... – кривила и покусывала губы пациентка.
- Понимаете, обрублена кисть. – продолжал доктор не обращая внимание на стоны пациентки. – Сразу же был собран персонал нашего отделения и парторг, почему то обращаясь именно к женщинам: врачам, медсестрам и санитаркам, безапелляционно спросил, кто мол из них украл кисть вождя? Женщины конечно начали возмущаться, а сами все больше краснеют, как спелые помидоры. Большинство-то из них были не замужем, кто уже в разводе, кто вообще замуж не выходил, а за кого выходить-то? За Ваньку-рабочего или за инженера на окладе в сто двадцать рэ? Вы понимаете о чем я, Леночка?
- Да, да, понимаю, доктор, господи, да будь вы все мужики прокляты, чтобы я такую боль еще раз терпела!
- Вы это и в прошлый раз говорили, Леночка. – Возразил доктор и вставил зонд...
- Так лучше себя пальцем самого Ленина удовлетворять, чем такое вот.... А... А! А!.
- Терпите, я же говорю. И вот значит, как вы удачно подметили, Леночка, наш парторг именно на это и намекал, потому что палец на этой статуе был чуть больше размеров фаллоса. А где еще фаллос искусственный взять? Это только на загнивающем Западе есть всякие там секс-магазины, а у нас ленинские статуи. Не знаю, в общем, кому тогда пришла в голову такая оригинальная идея, но когда по требованию парторга, руку восстановили, то новая кисть прожила не более трех дней и снова исчезла. – Доктор вставил расширители и начал вычищать матку молодой девушки.....
- Ой! господи. доктор.....
- Скоро я закончу, моя дорогая, очень скоро.... Так вот, исчезла и третья кисть и даже четвертая, несмотря на то, что наш парторг во все горло орал о диверсии, и подрыве Советской власти. Были приглашены сотрудники компетентных органов для прояснения обстоятельств дела, но конечно же ничего не нашли и никого даже не заподозрили. Закончилось тем, вот, сейчас, сейчас, один момент и я заканчиваю, что статую Ленина убрали совсем. Вместо нее установили бюстик примерно тех же размеров, как за моей спиной. Все. Сейчас я вас протру и можете одеваться. Как всегда полежите пару деньков и можете снова в бой, дорогая Леночка.
- Спасибо, Вадим Сергеевич. – сказала Леночка, встав со столов, убирая за собой окровавленные простыни, и кидая их в мусорное ведро. Одевшись она вышла из Ленинской комнаты общежития прапорщиков и младшего офицерского состава....
Вадим Сергеевич и Феликс Эдмундович Дзержинский.
Вадим Сергеевич любил свою профессию, можно даже сказать, он ее обожал. Сейчас, по прошествии множества лет, он и не сказал бы, почему выбрал специализацию гинеколога, но хорошо запомнил, как на одной из первых лекций профессор медицины Добрынин заявил:
- Что ж товарищи, хочу вас искренне поздравить, вы выбрали самую нужную профессию, потому что, какая бы власть на дворе не была – гинекологи всегда в почете. Где бы вы не жили, в Москве или на Таймыре – гинеколог – это царь и бог! Куда бы вас не забросила бы судьба, будь вы профессором или заключенным в сибирской зоне вы все равно останетесь гинекологом. И главное, вы всегда будете жить хорошо!
Вадим Сергеевич хорошо усвоил этот урок любимого профессора и шел по жизни легко и спокойно. Никогда не нуждался ни в деньгах, ни тем более в связях, одного слова Вадима Сергеевича было достаточно и как по мановению палочки появлялись дефициты и излишества. Не у каждого врача был телефон, а вот Вадим Сергеевич, как и начальник больницы, где он работал, был счастливым обладателем телефонного аппарата. Терапевты и хирурги, детские врачи и медсестры ждали в своих бесконечных очередях. а Вадим Сергеевич не напрягаясь имел все. Консультация нужным людям, тайный аборт, который не был отражен ни в одном журнале учета, такие же тайные лечения пациенток и хоп! У Вадима Сергеевича – новая квартира...
А суть человека такова, что он очень быстро привыкает к хорошему и хочется еще большего. Отдых на Черном море в престижнейших санаториях и домах отдыха, поездки в социалистические страны и связи, связи, связи....Надо только уметь правильно подойти к делу.
Законы, установленные советской властью, тому очень способствовали.
А Вадим Сергеевич был не промах, он знал, как и что надо делать, чтобы все вокруг были довольны и счастливы и самое главное чтобы карман Вадима Сергеевича никогда не пустел, только вот одна беда была, один вопрос не давал покоя.
Было у Вадима Сергеевича увлечение. Кто-то марки собирал, а кто-то радиоприемники, кто-то модели самолетов конструировал, а кто-то календарики собирал многими тысячами. А Вадим Сергеевич увлекся фотографией. И не просто фотографией, ему не интересно было бродить по лесам и фотографировать природу, часами ждать пока пробежит заяц, для того, чтобы сделать снимок, ему не нравилось фотографировать небо или героев труда. У него было специфическое хобби. Он пристрастился к фотографированию предмета своей работы. Впервые такие снимки он увидел на одном научном семинаре и в темноте зала, когда докладчик вел указкой по малым и большим половым губам на огромной фотографии, вдруг сам снимок, показался, тогда еще молодому Вадиму Сергеевичу, эротичным и он даже почувствовал напряжение внизу живота.
Когда семинар подошел к концу, Вадим Сергеевич уже знал, что он будет фотографировать.
Именно из за этого пришлось расстаться с местом работы в клинике города Ленина и переехать на периферию..... Но нет худа без добра, как говорил профессор Добрынин: гинеколог – везде гинеколог. Подпольный аборт стоил дорого, Вадим Сергеевич предлагал сделать болезненную процедуру дешевле, с условием, если ему позволено будет сделать пару снимков. Не все соглашались, но тем не менее, к моменту описываемых событий в коллекции Вадима Сергеевича было несколько тысяч фотографий, которые он никому не показывал. Никогда. По многим причинам, в том числе потому что боялся быть осмеянным.
и сейчас, когда он спиртом протирал инструменты и готовился к следующему аборту, фотоаппарат ФЭД – Феликс Эдмундович Дзержинский был с ним, висел на спинке стула и ждал очередную пациентку.
«Если бы Дзержинский знал, ЧТО я буду фотографировать фотоаппаратом названным в его честь, то наверное, перестрелял бы всех гинекологов еще тогда, в двадцатых, или же сменил имя и фамилию, а может быть не работал бы главным чекистом…» - думал Вадим Сергеевич и улыбался….
Леночка была не первый раз и еще как только легла на сдвинутые столы сразу спросила о фотоаппарате, в конце концов, заплатит на пять рублей меньше. Вадим Сергеевич не обеднеет, а вот коллекцию свою пополнит., а в коридоре еще пятнадцать женщин: холостячки и замужние, кто был постоянной клиенткой, а кто пришел в первый раз.
Вадим Сергеевич уже сделал четыре аборта, а впереди работы на всю ночь. Утром он уедет в город на первом автобусе, придя домой позвонит на работу и возьмет отгул, будет отсыпаться, потому что за ночь халтуры, как он называл свои левые заработки, получил денег на много больше, чем за месяц честной работы в больнице. Он скинет пиджак во внутреннем кармане которого, будет почти триста рублей, бережно поставит на стол фотоаппарат, с пленкой полной новыми фотографиями, примет горячий душ и ляжет спать.
Жизнь хороша! Особенно если ты гинеколог!
Майор Бурило и сексуально-коммунистическая секта.
Никто не любил майора и никто не знал почему. То ли потому что у него была такая странная фамилия, то ли оттого, что брился он до зеркального блеска, или же потому, что никогда не нарушал никаких правил, всегда имел выглаженную форму, от него всегда пахло хорошим одеколоном и он никогда не ругался матом. Более того, майор Бурило никогда не пил. Может быть именно поэтому все считали его чужим? Раз не пьет, значит или больной, что никак не скажешь по отменному виду майора, либо, что более вероятно – стукач, потому что, только стукачу надо иметь всегда трезвую голову, чтобы запоминать и потом доносы писать на своих сослуживцев.
Как бы там ни было, майора Бурило терпеть не могли, ни подчиненные ни начальство, и это самое начальство, желая хоть как то отыграться на майоре, ставило его в наряды, запихивало его туда по любому поводу, особенно в гарнизонные патрули. Это летом хорошо – тепло, ночь несколько часов, карауль себе матросиков возле казармы, да лови их по одному, но в эту июльскую ночь, майор Бурило, решил изменить постоянный маршрут, ему надоело торчать возле казарм, и он решил пройтись немного в стороне, ближе к санчасти, к офицерскому общежитию, к общежитию младшего офицерского состава, почему он решил пойти именно туда, спросите майора, он никогда бы и не сказал. просто чуйка сработала. если в другие дни, патрульные отлавливали по одному – два самоходчика, то майор Бурила набивал ими всю комендатуру. У него чутье было на тех матросов, которые хотели ночью посетить злачные гарнизонные места, где можно напиться, да за сиську подержаться. А тут майора Бурило повело в сторону. Бывшие с ним в патруле двое матросов, переглянулись, но ничего не сказали, пошли за командиром патруля.
Все было хорошо, все было таким, как тысячу раз до этого, только одно смутило бдительного майора – горящий свет в ленинской комнате общежития. Вообще-то это был старый барак, названный общежитием, разделенный на клетушки - комнаты и ленинская комната была самым большим помещением в нем: аж три окна и окна были зашторены и свет лился во всю, при чем сильный, яркий свет, создавалось такое впечатление, что там горит на много больше ламп чем должно было быть. Майор посмотрел на часы – два часа ночи!
«Что то здесь не то!» - подумал майор и направился к общежитию. Он медленно, крадучись, обошел, недавно засыпанный фонтан, где два молодых летчика поломали себе ноги. А летчики надо сказать товар штучный, дорогой, государство на них денег ухлопало миллионы, они должны быть живыми и главное абсолютно здоровыми. А в тот раз, как получилось? В гарнизоне, как обычно, летом, не было воды и летчики, ночью, придя с полетов, бухнулись с разбега в фонтан, в котором, к этому времени уже не было воды: результат – госпиталь и указание командующего засыпать проклятый фонтан к такой-то матери.
Майор Бурило, а за ним и двое матросов подошли к окнам ленинской комнаты и пытались заглянуть внутрь... Этого не удалось сделать ни у первого окна, ни у второго, и только у третьего майору удалось заглянуть внутрь, там, где штора не плотно закрывала окно, ужасная картина предстала перед его глазами! Он видел стоящий бюст Ленина, раздвинутые женские ноги и немолодого мужчину в странном прозрачном, синего цвета халате. Увиденное так поразило майора, что он встал, как вкопанный и несколько минут не мог прийти в себя, а матросы, зная нрав своего начальника, ходили с ним в патруле не в первый раз, не решились не то что спросить, а просто потревожить товарища майора.
Майор Бурило готов был увидеть многое, но странные оргии советских граждан, мужчин и женщин, в ленинской комнате, напомнили ему шабаши ведьм и сатанистов в Средневековье, о которых он как то читал в книге по истории инквизиции.
Может быть это новая сексуально-коммунистическая секта, о которой никто, ничего не знает? Тогда, майору Бурило нужно действовать оперативно, чтобы поймать всех с поличным. Явно, что их троих: майора и двух матросов, здесь будет мало. Даже если двоих поставить возле окон, то все равно, кто то должен зайти внутрь и поймать участников странной оргии с поличным.
А с другой стороны, время не ждет, неизвестно, как долго продлится этот шабаш, и как его участники будут покидать это собрание..... Что же делать, какое решение принять, Боже мой, здесь, в углу, так мало видно, что же делать, как поступить, стоит взять на себя ответственность или же переложить ее на плечи других?
Пока майор Бурило думал, женщина лежавшая перед бюстом Ленина встала и на ее место пришла другая.
То, что в следующее мгновение увидел начальник патруля, нельзя назвать удивлением, нельзя было назвать шоком, нельзя вообще назвать каким либо словом, потому что увиденное им повергло майора не просто в ужас, шок, трепет, ненависть, разочарование и боль, не просто в бешенство и ярость, это было нечто большее, пострашнее всего, что знало человечество.
Майор видел, как его собственная жена проходит к столу, стеллит простыни, раздевается оставляя на себе только бюстгальтер и ложится на стол, так же, перед бюстом Ленина и раздвигает ноги, а мужчина протягивает руки туда, где до этого были руки только самого майора, Начальник патруля не мог себе представить, чтобы и его жена, такая красивая молодая женщина, двадцати семи лет, мать двоих маленьких детей, жена коммуниста, стала участницей подпольной сексуально-коммунистической секты поклоняющейся Ленину раздвиганием ног.... Майор видел, как человек сделал шаг назад, поднял фотоаппарат, сделал снимок во время которого помещение ленинской комнаты осветилось яркой вспышкой, а дальше, майор уже ничего не помнил, он летел в окно разбивая его своим грузным телом, кричал, рычал, матерился и ломал все подряд. Ломалась рама, падали осколки стекла, разрезая лицо и руки майора, но он не чувствуя боли и стекавшей по нему крови, несся к своей жене, которая верещала во все горло, запрокинув голову назад и видела произошедшее в перевернутом виде, но так и продолжала лежать раздвинув ноги, а человек, который только что делал снимок с ужасом отскочил к другому окну, нервно ища ручку, за которую можно дернуть, чтобы открыть окно....
=Ууууббббъъъъюююююю!!!!!!!!!!!! – неслось по всему общежитию – майор Бурило подскочил к своей жене и с ходу засадил ей кулаком: -Сссссуууукккккааа!!!!!!!
Следующей его мишенью должен был стать человек, который фотографировал его супругу, лежавшую на столе. Майор не видел, как открылась дверь, как в нее заглянули молодые женщины и тоже начали орать, но только от ужаса увиденной ими картины.
Большинство из тех, кто пришел сюда, на аборт, совершенно не желали, чтобы их имена где либо и когда либо афишировались, тем более в таком деле. В общаге начался такой переполох, что казалось грянула атомная война. Женщины побежали к выходу, крича во все горло, отталкивая друг друга, стремясь первыми покинуть стены общежития, В дверях, между теми, кто тихо и спокойно сидел в ожидании приема, случилась потасовка за право выскочить первыми, а те кто были сзади орали:
- Так дайте же пройти, сучки недоделанные! Дайте пройти!
Матросы стоявшие под окнами и совершенно не ожидавшие такого развития событий стояли как вкопанные и только женские крики в дверях, привели их в чувства, и они, побежали ко входу, а там, на улицу, выбегали женщины, одна за другой...
Нельзя сказать, чтобы Вадим Сергеевич не готовил себя к таким ситуациям. Подпольный аборт – всегда был наказуем, и он, Вадим Сергеевич прекрасно знал, что нечто подобное, может произойти и если не произошло ранее, за пару десятков лет его практики, то он может назвать себя счастливчиком. Некоторые его коллеги горели на подпольных абортах сразу, некоторые чуть позже, а ему удалось продержаться так долго. А сейчас и его время пришло, поэтому, самое главное, не дастся им в руки. Нужно уходить, убежать, и от этого разъяренного военного и от других, кто может прийти ему на подмогу. Некогда думать, надо уходить и главное, скрыться, главное, чтобы не взяли! Вадим Сергеевич кинулся сначала к одному окну, дергая за ручку, потом почувствовал дыхание свежего воздуха в момент отрезвившего врача и гинеколог вылетел в разбитое окно, упал, поднялся, побежал, на ходу сдернул с себя халат и кинул его в сторону.
Вадим Сергеевич долго готовился к такому моменту, плевать на дорогие инструменты, плевать на фотоаппарат с ценными кадрами, ах, какие там были кадры! Все это дело наживное, главное ноги унести, а это сделать можно только в одном случае, если не бежать как сумасшедший, а думать, думать и еще раз думать! В этот момент Вадим Сергеевич, почувствовал себя партизаном совершившим диверсию в фашистском борделе и нужно было скрыться, потому как у фрицев отношение к партизаном было веревко-ласкательное. Повесят и дело с концом.
Остановившись в ближайших кустах Вадим Сергеевич оглянулся, никто за ним не гнался, наоборот же, на улице, появлялось все больше и больше народу, а выскочившие из комнат мужики стояли в одних трусах и всеми силами держали взбесившегося майора. Тот орал, как бешенный, что то о сексе, сектах и коммунистах, о жене суке-подколодной и проклятии на весь род людской. Через пару минут ему в лицо плеснули кружку воды, но это не помогло, тогда вылили на него целое ведро и только тогда он начал немного успокаиваться и затихать, но все еще вертел выпученными глазами... Не отпуская его из своих рук, мужики потащили майора к комендатуре, вслед за ними шли ничего не понимающие, но шокированные матросы.
Вадим Сергеевич вышел из кустов, отряхнулся и направился прямо к общежитию, где только что делал аборты. «Темнее всего под лампой» - рассуждал он, и его именно здесь, искать не будут. Могут поднять тревогу, пошлют матросов на поиски преступника, могут даже перекрыть въезд и выезд, но никто не подумает, что в этом же общежитии он и будет скрываться.. Вадим Сергеевич спокойно вошел в здание, как входил в него много раз до этого, прошел мимо ленинской комнаты, борясь с искушением заглянуть внутрь и забрать хотя бы фотоаппарат, но сдержав себя, он прошел дальше, мимо комнат, с открытыми дверьми, из которых выглядывали жильцы, он вежливо здоровался, успокаивал всех, и дойдя до комнаты под номер семнадцать открыл дверь и вошел внутрь. «Теперь все подумают, кто не в курсе, что я очередной Леночкин хахаль». – подумал врач.
- Леночка, я у вас останусь, дорогая… - То ли спрашивал, то ли утверждал Вадим Сергеевич
Девушка резко села на кровати, скривилась от боли внизу живота и просто сказала:.
- А это вы.... Застукали вас, Вадим Сергеевич?
- Бывает, вы же знаете, в нашей профессии без риска никуда..... Так я остаюсь?
- А кто мне еще аборты делать будет по быстрому? – Задала встречный вопрос Леночка. – Оставайтесь, но учтите, делать будете бесплатно.
Вадим Сергеевич взвесил все возможные потери от такого соглашения и возможные доходы и сразу же согласился:
- Договорились, моя дорогая.
- К себе не зову, мне еще плохо, а вот на диван можете прилечь.....
ХХХХ
В гарнизоне устроили большое разбирательство, дело о подпольных абортах еще несколько лет обсуждалась на скамейках и лавочках никогда не работавшими офицерскими женами.
Жену майора Бурило отвезли в больницу с переломом челюсти, а самого майора препроводили в госпиталь Черноморского флота и через некоторое время списали под чистую, по причине его легкого помешательства.
А матросы, которым в руки попал фотоаппарат, в военной фотолаборатории проявили пленки и сделали множество фотографий, которые потом, долго находили у матросов под матрасами, в подушках, за батареями отопления и даже в оружейной комнате. Фотографии отбирались начальством, но они появлялись снова и снова. Проявленная пленка служила ни одному поколению призывников – срочников... Но это уже другая история.
А Вадим Сергеевич резко взвинтив цены на свои услуги еще долго пользовал гарнизонных залетчиц Никто из женщин и не подумал рассказать следственной комиссии о приезжающем пару раз в месяц гинекологе.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
СССР уже 20лет как нет, а кол-во абортов в России за это время возросло в разы, не смотря на обилие и разнообразие средств контрацепции.
Эта проблема, к сожалению, была, есть и будет...
Эта проблема, к сожалению, была, есть и будет...

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Михаил Юдовский
ТАМАДА
На Щекавицкой улице, неподалеку от синагоги, жил самый, пожалуй, известный на всем Подоле человек. Своею популярностью он превосходил самого киевского раввина, не говоря уже о местном председателе райисполкома, который в силу своей должности старался как можно реже попадаться людям на глаза. Что ж до нашего героя, то этого удивительнейшего человека звали Борисом Натановичем Золотницким, внешне он напоминал несколько располневшего Мефистофиля средних лет, но славу ему принесла не внешность, а профессия, которая звучала необычно и на грузинский лад: тамада.
Есть люди, чье ремесло досталось им от Бога. Как правило, так говорят о поэтах, музыкантах, артистах или - на худой конец - ученых. На Подоле, однако, не требовалось особых талантов, чтобы достичь вершин на этих сомнительных поприщах. Артистом здесь называли (без особого, надо сказать, восторга) каждого второго ребенка, музыкантов (по той же причине) любили, как головную боль, поэтом считался любой, кто мог произнести зарифмованный тост, не слишком печась о стихотворном размере, а всякого, получившего высшее образование, почитали профессором. Совсем иное дело был тамада. На Подоле любили жениться и любили делать это красиво. Семейства побогаче снимали для этой цели ресторан "Прибой" на Речном вокзале, а то и "Динамо" в центре города. Люди победнее арендовали кафе или столовую или же обходились собственным двором, посреди которого устанавливался стол, на табуретки клались взятые из дровяного сарая доски, а кухни в квартирах новобрачных в течении двух дней напоминали геену огненную, откуда вместо плача и зубовного скрежета доносился грохот сковородок и кастрюль и такие смачные ругательства, что казалось, будто здесь готовятся не к свадьбе, а к войне.
Борис Натанович имел вкус и имел совесть. Он знал, с кого и сколько можно брать, и был равно добросовестен и искрометен что в ресторане, что посреди скромного и не слишком ухоженного двора.
- Кто не умеет писать эпиграмм, тот и оды не напишет, - объяснял он.
Даже когда слава Золотницкого перехлестнула границы Подола, достигнув самого аристократического Печерска и таких дремучих на ту пору окраин, как Нивки и Святошино, даже когда неофициальные его гонорары превысили самые смелые подольские фантазии, даже тогда ни разу не отказался он выступить тамадой на скромной дворовой свадьбе. Приглашали его к себе не только евреи, но и украинцы, и русские. Борис Натанович в совершенстве владел четырьмя языками и свободно переходил с одного на другой: с русского на украинский, с украниского на суржик, а с суржика на ту удивительную гремучую смесь русского, украинского и еврейского, на которой разговаривала половина Подола и которую сам он называл "сурдиш".
- Что нам делить? - пожимал плечами Борис Натанович. - Подол на семьдесят процентов еврейский район и на остальные тридцать тоже. Спросите любого, и он вам скажет, что у него ин кладовке аф дер полке штейт а банке мит варенье.
Свадьбы Золотницкий вел блестяще. Шутки и экспромты сыпались из него, как гречневая крупа из треснувшего кулька. Никогда они не были плоски, хотя временами, пожалуй, излишне солоноваты, но подгулявшим гостям нравилось, когда острота, выходя за рамки приличия, опускалась чуть ниже пояса.
- Берл, выдай перл! - требовали они.
Борис Натанович успокаивал их движением ладони и провозглашал:
- Предлагаю всем наполнить бокалы и выпить за жениха. За жениха и за тот нахес, который он доставит невесте. И пусть этот нахес послужит ему верой и правдой, потому что лучше, чтоб невесте было ночью чуточку больно, чем жениху утром чуточку стыдно.
От спиртного Борис Натанович категорически отказывался, лишь под занавес позволяя себе пригубить бокал шампанского.
- Если я начну выпивать на каждой свадьбе, - объяснял он, - то скоро буду работать тамадой в Кирилловке.
Неприятность с выпивкой произошла в самом начале его карьеры, едва не поставив на ней крест. Тогда, поддавшись уговорам хозяев и гостей, он оприходовал несколько рюмок водки и, когда подошло время очередной здравицы, к ужасу своему обнаружил, что забыл имя жениха.
- Дорогая Сонечка, - бодро проговорил он в микрофон. - Дорогой... - Тут он осекся, повернулся к одному из музыкантов и, понизив голос, но забыв убрать микрофон, осведомился:
- Рома, ты не помнишь, как зовут этого мудака?
- Аркадий, - выдавил из себя музыкант, прыснув так, что обдал брызгами свой инструмент.
Борис Натанович повернулся к остолбеневшим гостям, чарующе улыбнулся и продолжил:
- Раз-два-три, проверка микрофона. Дорогая Сонечка, дорогой Аркаша! Я желаю вам долгих лет жизни и короткой памяти. Пусть все неприятные моменты тут же изглаживаются из нее, так чтоб наговорив друг другу а пур верт вечером, вы забывали эти слова утром. Пусть вам живется и любится так сладко, чтоб всем остальным стало от зависти... ГОРЬКО!! - проревел он так залихватски, что клич его был тут же подхвачен всеми присутствующими.
История эта распространилась по Подолу со скоростью искры на бикфордовом шнуре. Все только и говорили о том, что за прелесть сморозил Золотницкий и как ловко он из этой ситуации выкрутился. Меньше всего разговоры эти понравились новоиспеченному мужу, котрый к вечеру явился к Борису Натановичу для расправы.
- Боря, - объявил он, - я пришел, чтобы набить тебе морду.
- Аркаша, если не ошибаюсь? - осведомился Золотницкий. - Да, это имя я уже вряд ли забуду. Так вот, Аркаша, я понимаю твое желание и даже где-то глубоко ему сочувствую. Но, - он развернул плечи, - ты посмотри на меня, а потом на себя в зеркало. Ничего хорошего из твоего желания не выйдет. Давай лучше выпьем по рюмке водки и забудем всё, как кошмарный сон со счастливым концом. Я сегодня свободен, ты, я так понимаю, тоже уже сделал свое дело. Выпьем, Аркаша.
Они выпили по рюмке водки, затем еще по рюмке, а затем еще и расстались к полуночи лучшими друзьями на свете. И роковая звезда, едва не повисшая над карьерой Золотницкого, оказалась счастливой звездой, ибо скандальная слава в глазах людей лучше невнятного бесславия.
Внешность Бориса Натановича как нельзя более способствовала его успеху. Он был не столько красив, сколько необыкновенен. Элегантная и поджарая до сорока лет фигура, высокий рост, темные глаза под сросшимися черными бровями, орлиный нос и завиток бородки делали его похожим на черта. Осенью и зимой он носил пальто и шляпу, летом облачался в легкий серый костюм.
- Я бы, конечно, с удовольствием прогуливался с тростью, - говорил он знакомым, - но в наше сумасшедшее время, увидев меня с тростью, люди примут меня не за аристократа, а за инвалида.
Частенько, выходя из своей квартиры на Щекавицкой в пятницу вечером, он встречался с соплеменниками, направлявшимися на службу в молитвенный дом.
- Добрый вечер, Борис Натанович, - говорили ему. - Что это вы навострились в другую сторону? Вы разве в синагогу не пойдете?
- Боже упаси! - отвечал Борис Натанович.
- Почему? Вы не верите, что есть Бог?
- Я не знаю, - улыбался Золотницкий, - кто там есть и что там есть, но я точно знаю, что синагога это не то место, где мне дадут выступить. Я, конечно, уважаю нашего ребе, но по роду занятий я привык говорить, а не слушать.
По подольским меркам жил Борис Натанович роскошно - один в двух комнатах с кухней. Кухня была большой, комнаты маленькими, зато в них имелся книжный шкаф, торшер, радиола и даже телевизор "Рекорд", поблескивающий стеклянным экраном с комода. Квартира осталась Борису Натановичу после смерти обоих родителей и, казалось, только ждала, когда хозяин введет под ее своды будущую супругу, но тот явно не торопился с женитьбой.
- Я уже побывал на стольких свадьбах, - с улыбкой говаривал он, - что своя мне не нужна.
Вместо этого он приводил домой молоденьких девушек, готовых разделить вечер со столь интересным мужчиной, к тому же известным и холостым. Соседи Золотницкого с удовольствием обсуждали меж собою его многочисленных юных пассий, но открыто своего мнения не высказывали. Исключение составляла лишь невоздержанная на язык Розалия Семеновна, необъятная и неуемная тетя Роза, которая потеряла в войну мужа и двух детей, но сохранила удивительное жизнелюбие и всё происходившее во дворе считала частью своей личной жизни. Проводив Бориса Натановича и его спутницу пристальным взглядом до самой двери, она пять минут спустя стучалась в нее и настойчиво требовала:
- Боря, ну-ка выйди ко мне на а пур верт.
Зная, что спорить с тетей Розой бесполезно, Борис Натанович, улыбнувшись гостье и пообещав не задерживаться, представал пред соседкины очи.
- Я вас внимательно слушаю, Розалия Семеновна.
- Боря, - нехорошим голосом начинала та, - ты давно перечитывал уголовный кодекс?
- С какого перепугу?
- Закрой рот и слушай меня. Если ты думаешь, что привел к себе а гройсер удовольствие, так ты таки ошибаешься. Ты привел а клейне статью.
- Тетя Роза, за кого вы меня принимаете? Ей уже, слава Богу, есть восемнадцать.
- Да? - ядовито интересовалась тетя Роза. - Это она тебе сказала? А что ее зовут Валентина Терешкова она тебе не сказала? Боренька, Береле, не будем идиотом. Сегодня она пришла одна, завтра придет с папой, а послезавтра с милицией. У тебя давно не было веселых минут?
Борис Натанович с улыбкой выслушивал тетю Розу, обнимал ее, целовал в щеку, возвращался к себе и прекрасно проводил вечер в приятной компании. Чем старше он становился, тем моложе оказывались его визитерши. Борис Натонович несколько располнел, под серым его костюмом начало проглядывать брюшко, но он по-прежнему оставался элегантен, остроумен и неотразим.
- Боря, - пеняла ему неугомонная тетя Роза, - сколько уже можно водить к себе пионэрок? Ты мешаешь девочкам учить уроки.
- Господь с вами, Розалия Семеновна, - в притворном ужасе махал руками Золотницкий. - Вы меня пугаете.
- Пусть уж лучше тетя Роза тебя на минуточку испугает, чем милиция сделает заикой на всю жизнь. Ты мне скажи, когда ты уже наконец женишься? Пожалей своих несчастных родителей, земля им пухом, дай им спокойно вздохнуть на том свете.
- Понимаете, Розалия Семеновна, - разводил руками тамада, - есть такой момент, когда жениться еще нельзя, и есть такой момент, когда жениться уже нельзя. Жениться нужно в промежутке между этими двумя моментами, но я его, кажется, пропустил.
- С чего это вдруг тебе уже нельзя жениться? - удивлялась тетя Роза. - Если тебя хватает на весь твой гарэм, то уж с одной ты как-нибудь справишься.
- Легче справиться с табуном, чем с одной лошадью, - вздыхал Золотницкий. - Вы же понимаете, тетя Роза, что жена и любовница - это две разные профессии.
- А, что я с тобой говорю, - безнадежно махала рукою тетя Роза. - Ты же типичный а идишер коп. Ты знаешь, что такое а идишер коп?
- Знаю, - отвечал Золотницкий. - Это большая умница.
- В твоем случае, - вздыхала Розалия Семеновна, - это два по полкило упрямства. Чтоб моим врагам так весело жилось, как с тобою можно спорить.
- Вот и не будем спорить, тетя Роза. Вы же знаете - где два еврея, там три мнения.
Одинокая жизнь приучила Бориса Натановича самому о себе заботиться: стирать, гладить, стряпать. И надо сказать, что поваром он был отменным. Раз в неделю, обыкновенно по пятницам, он отправлялся на Житний рынок, располагавшийся на ту пору под открытым небом в конце Нижнего Вала, и покупал там фрукты, овощи, мясо, птицу, соленья и даже столь некошерный для еврея продукт, как домашнее сало, нашпигованное чесноком. Здесь он тоже был известной личностью, торговки из окрестных сел мгновенно узнавали в пестрой толпе его статную фигуру, махали руками и горланили:
- О! Борыс Натановыч! Як здровъячко? Идить сюды, е щось для вас цикавэ.
Борис Натанович улыбался, подходил к подзывавшей его бабе, слегка кланялся и не без удовольствия переходил на украинский язык:
- Ну що, баба Таню, багато грошей сьогодни наторгувалы?
- Та це ж хиба торговля, - отвечала селянка. - Ци ж люды якщо у кишеню й полизуть, так тилькы щоб тоби звидты дулю достаты. А в мэнэ гляньтэ яка картопля: одна до однойи, круглэнька, ряднэнька, рожэва, як щочкы у дытыны. Це ж тилькы за тэ, щоб подывытыся, можна гроши браты.
- И на скилькы ж я вже надывывся? - интересовался Борис Натанович.
- Та Бог з вамы! Це ж я так... За пъятдэсят копийок кило виддам.
- Отакойи! - деланно удивлялся Борис Натанович. - А що, в сэли пожежа була чи злыва, що усю картоплю позатопыло?
- Ой, нэ прывэды Боже! - так же деланно пугалась баба Таня. - Що вы мэнэ, стару, лякаетэ.
- Так що вона, з золота, картопля ваша? Давайтэ за трыдцять.
- Та вы шо, сказылысь? За таку красу - трыдцять?
- Якбы я сказывся, так дав бы пъятдэсят. Що вы мэни ото про красу розповидаетэ? Я ж йийи йисты буду, а нэ цилуваты.
Наведываясь поначалу на рынок, Борис Натанович покупал всё подряд, не торгуясь, пока не заметил, что такое поведение удивляет и даже оскорбляет селян. Он понял, что сразу приобретая у них товар, он лишает их необходимой доли общения, выплеска чувств, накопленных за дни и недели тяжелого крестьянского труда. Эти простые с виду, но наделенные удивительной смекалкой и чутьем мужики и бабы воспринимали его нежелание торговаться как пренебрежение к ним. Тогда он осторожно, соблюдая меру, принимался сбавлять цену, торговцы тут же вступали с ним в спор, и слово за слово, день за днем, год за годом они, что называется, притерлись друг к другу.
- Ну, визьмэтэ за пъятдэсят? - сурово спрашивала баба Таня.
- Баба Таня, - отвечал Борис Натанович, - у вас е ручка чи оливэць?
- Оливэць е, - удивлялась та. - А що?
- Так вы визьмить вашого оливця и напышить у мэнэ на лоби: "Борис Натанович - идиот". Вы ж мэнэ за идиота вважаетэ, якщо хочэтэ мэни оци клубни за пъятдэсят копийок втюхаты.
В конце концов, они сходились на сорока копейках, менялись товаром и деньгами, смотрели друг на друга, качали головами и восклицали одновременно:
- Грабиж!
Накупив овощей и солений, Золотницкий обыкновенно сворачивал к мясным "рундукам", у которых неизменно околачивались стайки собак. Собаки были неотъемлимой частью здешнего пейзажа, их знали, на них покрикивали, но не трогали, их подкармливали костями, требухой и мясными ошметками, а в подаренных им кличках как ни в чем другом, пожалуй, проявилась недюжинная фантазия обитателей Житнего рынка. Здесь не было Шариков, Жучек и Палканов, зато имелись Мазепа, Шелудявка, Карацупа, Мухомор, Кацап, Голожопый и даже Баба Нюра. На случайного посетителя, забредшего к "рундукам", нападал, бывало, столбняк, когда он слышал раскатистый бас изнутри:
- Эй, Кацап, тащи сюды свою Бабу Нюру, обом по печинци дам!
Однажды среди знакомого собачьего кворума Борис Натанович заметил новенькую псину, такую же дворнягу, но на редкость изящной формы, черную, с рыжими подпалинами. Роста она была небольшого, морда у нее была худая и вытянутая, уши опущены книзу, а в карих глазах застыла то ли горечь, то ли тоска.
- Ты кто такая будешь? - спросил Борис Натанович, остановившись и с интересом уставившись на собаку.
Та глянула на него в ответ, несколько раз моргнула и отвернулась.
- Мить, - окликнул Золотницкий мясника, - что это за пополнение?
- Та прыблудный якийсь элемент, - отозвался Митя, здоровенный детина в заляпанном кровью белом фартуке, обожавший читать и покушавшийся на образованность. - Йийи Голожопый з собою прысовокупил, думав знайшов соби подругу, а вона на нього ноль внимания. - Митя хохотнул. - Хотив до нэйи пидступытыся, так вона його так тяпнула, що вин на тры парсека попэрэд свого визгу лэтив.
- Ты дывы яка, - Борис Натанович присел перед собакой на корточки. - Ну и як цю барыню зваты?
- Та Сыльвою йийи клычуть.
- Як? - удивился Борис Натанович.
- Сыльвою. Тут такый дидок був, интэлэгэнтный, у окулярах, так цэ вин йийи так охрэстыв. Вона в вас, кажэ, нэ гавкае, а спивае. Просто, кажэ, Сыльва. А що за Сыльва - бис його знае.
- Слышь, Мить, - сказал Золотницкий, переходя отчего-то на русский язык, - а она точно ничья?
- Кажу ж - прыблудна.
- Если что, я б ее купил.
- Та вы що, здурилы, Борыс Натановыч, - изумился Митя. - У кого б купылы? Мы тут, слава Богу, собачатиною нэ торгуемо. Такэ кажэтэ, шо слухаты нэ гигиенично. Шо вы нам рэпутацию мочыте?
- Так ее можно взять?
- Та бэрить соби! Тильки на шо вона вам? Вона ж нэцивилизована. Голожопого тяпнула, а то щэ тут така гражданочка гуляла, з пуделем у комбизони, так оця тварюка так на того пуделя вышкирилась, шо у того, мабуть, инфаркт зробывся.
- Знаешь что, Митя, - задумчиво проговорил Золотницкий, - куплю-ка я у тебя два кило говядины.
- Оце для нэйи? - Митя кивнул на Сильву. - Ну-ну. Говъядина сьогодни по чоторы карбованця в рублях.
Борис Натанович, не вступая на сей раз в торги, заплатил червонец, отказался от сдачи и повернулся к собаке.
- Ну что, Сильва, - сказал он, пристально глядя ей в глаза, - пойдешь со мной? Заставлять не буду, мясом соблазнять не буду. Решай, как знаешь.
Сильва поднялась с земли, подошла к нему вплотную, понюхала кулек с мясом, затем штанину серых брюк, подняла голову вверх и пару раз тявкнула.
- Ну вот, а говорят, ты лаять не умеешь, - усмехнулся Золотницкий. - Что, Сильва, вот и встретились два одиночества. Пойдем. До свидания, Митя.
- Бувайтэ, - несколько обиженный быстрой сделкой, произнес Митя. - Отже ж дурна людына! - тихо добавил он вслед Золотницкому. - И на шо йому ота дворняга? За свойи гроши пры такой меркантильности мог бы соби пуделя купыты.
Человек и собака стали жить под одной крышей. Сильва, казавшаяся поначалу и в самом деле дикой, как-то на удивление быстро то ли одомашнилась, то ли просто привязалась к тамаде. Нет, она не бегала за ним по всей квартире и не вертелась у него под ногами, но с какой-то собачьей чуткостью улавливала те мгновения, когда ее общество было ему необходимо. Тогда она подходила к Борису Натановичу и клала ему на колени голову или просто лежала у его ног, покуда тот сидел в кресле с какой-нибудь книгой, и это крохотное отдаление делало еще ощутимее их внутреннюю близость. Наконец, Борис Натанович откладывал книгу, потягивался в кресле, гладил собаку и спрашивал:
- Ну что, Сильва, пойдем гулять?
Оба страшно полюбили эти прогулки вдвоем. Несмотря на беспородность Сильвы, они удивительно красиво и слитно гляделись вместе, а в октябре, когда асфальт темнел от дождя и тело его покрывалось рыжими мазками опавших листьев, Борис Натанович в своем черном пальто и черной шляпе и Сильва, черная от природы, с рыжими подпалинами, казались такой же неотъемлимой частью Подола, как дома и деревья. Бродили они долго и неторопливо, словно страницы огромной книги листая уютные названия подольских улиц: Щекавицкая, Почайнинская, Верхний и Нижний Вал... Они шли мимо Флоровского монастыря и Гостинного двора на Контрактах, сворачивали на дребезжащую от трамваев Константиновскую и, сделав круг, возвращались домой. Подол никогда не надоедал им, Борис Натанович, который к тому времени вел свадьбы по всему Киеву, от Соломенки до Дарницы, возвращался сюда, в Нижний Город, с облегчением, словно из долгой изнурительной командировки.
- Понимаешь, Сильва, - говорил он, - все эти Печерски, Крещатики и иже с ними - всё это так, между прочим. Верхний Город - он, конечно, голова, но сердце Киева - здесь, на Подоле. Надеюсь, ты не станешь со мной спорить?
Сильва не спорила с ним. Она вообще оказалась на редкость молчаливой собакой, вопреки своему опереточному имени. Лишь когда Золотницкий отправлялся веселить народ на свадьбах, оставляя ее на попечение тети Розы, она принималась скулить высоким сопрано.
- Перестань уже надрывать мне сердце, - умоляла ее тетя Роза. - Придет твой Береле, никуда не денется. Боже мой, я всегда считала наш двор лучшим на всем Подоле - здесь, тьфу-тьфу-тьфу, не было ни одного вундеркинда со скрипкой. Так теперь мы тут имеем свою певицу! А зохен вей и танки наши быстры... Закрой уже рот и скушай курочку.
Сильва отказывалась от курочки, вообще не прикасалась к еде, пока во дворе не раздавались шаги ее любимого человека. Тогда скулеж ее сменялся на лай, она подбегала к двери и царапала ее, меж тем как в замочной скважине вращался ключ, и лишь когда отгулявший тамада входил в квартиру, успокаивалась и, лизнув его в руку, ложилась у кресла в гостинной.
- Ну, как вы тут без меня? - интересовался Борис Натанович у тети Розы.
- Ты меня спрашиваешь? - отвечала та. - Так я тебе скажу, что в Кирилловке таки спокойней. Зачем нам ехать куда-то на Куреневку, если у нас на Подоле теперь свой сумасшедший дом. Поздравляю, Боренька, я тебе, конечно, не такой жены желала, но лучшую ты уже вряд ли найдешь.
Борис Нитанович, которому на ту пору уже стукнуло сорок пять, и в самом деле давно смирился с тем, что жены у него нет и не будет. С появлением Сильвы молодые девушки в его доме также сделались из правила исключением. В их присутствии Сильва из милой животинки превращалась в ревнивую мегеру, демонстративно уходила на кухню, а в самый ответственный и интимный момент принималась выть, достигая в своих ариях такого душевного надрыва, что ее опереточная тезка показалась бы в сравнении дешевой кокеткой.
- Послушайте, Борис, - возмущалась очередная гостья, - ведь так же совершенно невозможно. Успокойте ваше животное.
- Бесполезно, - вздыхал Золотницкий. - Когда Сильва поет, лучше к ней не подходить. Вы же знаете, золотце, что такое душа артиста. Расслабьтесь и не обращайте внимания. Представьте себе, что это волки воют в лесу, а мы с вами находимся в шалаше посреди этого леса. Ведь с милым и в шалаше рай, не правда ли?
- Знаете что, Боря, - отвечала гостья, начиная одеваться, - если вы такой большой романтик, то водите к себе всяких шалашовок. А я девушка из культурной семьи и не привыкла, чтоб у меня выли под ухом, когда я всю себя отдаю. Так что, до свидания, провожать меня не надо, оставайтесь тут и пойте с ней дуэтом.
- Сильва, - сурово сдвинув брови, обращался к собаке Золотницкий, когда дверь за визитершой захлопывалась, - как прикажешь тебя понимать? Что это, прости великодушно, за сучьи выходки? Ты давно не была у живодера?
Сильва весело махала хвостом в ответ, словно давала понять, что ни тон Золотницкого, ни его угроза отвести ее на живодерню ничуточки ее не испугали. Напротив - у нее теперь на душе легко и радостно, они снова вдвоем, и стоит ли о том печалиться, что какая-то двуногая бестия оставила их, наконец, в покое.
Однажды Борис Натанович присутствовал в качестве тамады на очередной свадьбе в ресторане "Прибой". Свадьба эта была не совсем обычной, поскольку жених, дородный и кучерявый Феликс, был евреем, а невеста, тоненькая, как кошачий усик, Оленька, была русской. В тот вечер Борис Натанович, пользуясь случаем, показывал высший пилотаж. Он говорил о загадочной русской душе, на которую свалилось девяносто пять кило еврейского счастья; он напомнил, что муж должен быть в семье головой, а жена ее сердцем, особенно когда голова эта еврейская, а сердце русское; он посулил большое будущее этому браку и его плодам.
- Хорошо, когда есть выбор, - сказал он. - Если вы останетесь здесь, ваши дети будут считаться русскими, потому что русский это не национальность, а алиби. Если же вы решите уехать, то они тут же станут евреями, потому что еврей это тоже не национальность, а средство передвижения.
Гости хохотали, со вкусом пили и с аппетитом закусывали, а свидетельница невесты Светлана, очаровательная русская девушка лет двадцати четырех, с интересом поглядывала на Бориса Натановича. Когда застолье подошло к концу и гости начали расходиться, она приблизилась к Золотницкому и с улыбкой обронила:
- А вы еще красноречивей, чем о вас говорят.
- Драгоценная моя, - улыбнулся в ответ Борис Натонович, - мое красноречие не идет ни в какое сравнение с моим краснодействием.
- Ого! - вскинула брови Свтлана. - Вы, я смотрю, не снижаете оборотов.
- Если жеребца всякий раз останавливать на полном скаку, - Борис Натанович взял ее за руку, - у него, в конце концов, начнется одышка.
- У вас красивая рука, - заметила Светлана, - прямо как у аристократа.
- Я и есть аристократ, учитывая, что моему роду около пяти тысяч лет, если считать от Авраама. Светочка, вы не проводите меня домой? Я очень боюсь хулиганов.
- А что скажет ваша жена?
- Ничего не скажет, будьте уверены. Разве что немного полает.
- Что значит полает? - удивилась Свтлана.
- Она у меня, изольте видеть, четвероногая. Да вы не пугайтесь, - поспешно добавил он. - На самом деле я одинок, как тургеневский Герасим, у которого не было никого, кроме собаки, да и ту пришлось утопить.
- Ну, на Герасима вы не очень похожи, - усмехнулась Светлана. - Глухонемым вас никак не назовешь. Так вы с собакой живете?
- Вас это пугает?
- Меня трудно испугать. А на какой улице?
- Относительно недалеко. На Щекавицкой, возле синагоги.
- На Щекавицкой? - Светлана поморщилась. - Такой известный человек - и вдруг на Щекавицкой?
- А вы, наверное, на Жданова живете, - несколько задето ответил Золотницкий. - Или по меньшей мере на Константиновской.
- На Константиновской, - кивнула Светлана. - У кинотеатра "Октябрь". А как вы догадались?
- Очень просто. С тех пор, как по Константиновской улице пустили трамвай, тамошние люди стали думать, что они живут на Бродвее. Если вы им скажите, что вы со Щекавицкой или - упаси Боже - с Еленовской, они будут здороваться с вами двумя пальцами.
Светлана несколько странным взглядом посмотрела на Золотницкого.
- Придется вас проводить, - вздохнула она. - А вдруг и в самом деле хулиганы... Нельзя же лишать Подол такой достопримечательности, даже если она живет на Щекавицкой улице.
Два эти человека, невзирая на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте, на удивление быстро и легко сошлись.
- Я тебе поражаюсь, Светочка, - говорил Борис Натанович. - Ты, такая молодая, такая красивая, и до сих пор была одна!
- Во-первых, я редко была одна, - в тон ему отзывалась Светлана, - а во-вторых, Боря, мне еще ни разу не попадался человек, с которым мне хотелось бы всегда быть вместе.
- А я - такой человек?
- Ты, во всяком случае, человек с которым мне не хотелось бы расставаться.
- А то, что я тебя вдвое старше?
- Боренька, жизнь и математика - это, как у вас говорят, две большие разницы. Даже если мою жизнь помножить на два, всё равно не получится одна твоя.
Тете Розе Светлана не понравилась.
- Красивая, но чересчур умная, - заявила она.
- Что ж в этом плохого, Розалия Семеновна? - удивился Золотницкий.
- Боренька, ты еще мальчик и многого не понимаешь. Когда русская шиксе красива - это нормально. Когда русская шиксе собирается еще быть умной - это таки может кончится катастрофой.
- Тетя Роза, - улыбнулся Борис Натанович, - у меня, хоть я еще и "мальчик", было уже столько дур, что я немного соскучился по умной.
Но хуже было то, что Светлана с первого взгляда не понравилась Сильве. Поначалу та просто и, не скрывая угрозы, рычала на непрошенную гостью, вознамерившуюся стать в этом доме хозяйкой; когда же Борис Натанович пожурил ее за такое поведение, стала подчеркнуто Светлану игнорировать. Светлана, привыкшая, видимо, ко всеобщему обожанию, оскорблялась и платила собаке взаимной антипатией. Чуткий, как барометр, Золотницкий, оказавшийся внезапно меж двух огней, пытался как-то сгладить неприятную ситуацию и увещевал обеих:
- Девочки, перестаньте ссориться. В конце концов это просто неприлично. Вы подумали о моей репутации? Не хватало, чтобы люди говорили, будто меня ревнуют друг к другу женщина и собака.
- Кто ж виноват, что твоя собака относится к тебе, как к мужчине, - сердито отрезала Светлана.
Наконец, Золотницкий понял, что пора ставить точку в этой чересчур затянувшейся фразе, и сделал Светлане предложение. Та, не задумываясь ни на секунду, его приняла. Свадьбу решили справлять широко, но возникли проблемы с тамадой - никто из собратьев Бориса Натановича по ремеслу не отважился взять на себя эту роль.
- Нужно быть идиотом и самоубийцей, чтобы выступать тамадой в присутствии Золотницкого, - сказали они.
Наконец, удалось соблазнить на это рискованное мероприятие совсем юного, начинающего тамаду, внушив ему, что вести свадьбу самого Золотницкого - блестящая реклама для будущей карьеры. Играли свадьбу всё в том же ресторане "Прибой" (как истинный патриот Подола Борис Натанович категорически отказался от престижного "Динамо"). Избранный на роль тамады юнец поначалу смущался и невнятно мямлил, так что Золотницкому чуть ли не силой пришлось влить в него две рюмки водки.
- Смелее, мой юный коллега, - напутствовал он. - Не нужно дрейфить, вы же не корабль. Вас как зовут? Жора? Очень хорошо. Выпейте еще рюмку, Жора. Вот, отлично. Как вас зовут? По-прежнему Жора? Значит, свое имя вы еще помните. А если вдруг забудете мое, то на всякий случай сообщаю вам, что этого мудака - в смысле, меня - зовут Борисом. Ах, как вы напоминаете мне самого себя в начале карьеры!
Юный Жора, знавший Золотницкого в основном по фамилии, и в самом деле намертво зафиксировал в сознании имя жениха; до такой степени намертво, что забыл имя невесты.
- Дорогие... - начал он очередной тост и застыл с открытым ртом. Лицо его сперва изобразило отчаяние, затем вдруг просветлело, и он выпалил:
- Дорогие Адам и Ева! Да-да, я не оговорился. Каждый жених - это Адам, а каждая невеста - Ева, ибо всё возвращается на круги своя. И всякий раз мы будем надкусывать пресловутое яблоко, расставаясь с вечным, но скучным блаженством ради сиюминутного, но пронзительного счастья. А поскольку закусывать следует лишь после того, как выпьешь, предлагаю всем поднять бокалы и осушить их до дна за жениха и невесту, выпить и почувствовать как нам... ГОРЬКО!
- Браво! - раздался голос Бориса Натановича. - Друзья, запомните этого мальчика. Когда Золотницкий уйдет на пенсию и будет выращивать на подоконнике бегонии и алоэ, ему будет спокойно и приятно знать, что его место, хоть оно не так уж и свято, но не пусто. Жора, представьтесь нам полностью.
- Серебрянский, Георгий Яковлевич, - зарделся молодой человек.
- Отлично. Золотницкий, Серебрянский... Чувствуется преемственность. Дорогие мои, давайте уважим Георгия Яковлевича - вы пейте, а я поцелую невесту, потому что, во-первых, вернее, во-вторых, так велел Георгий Яковлевич, а во-вторых, вернее, во-первых, потому что мне самому этого до смерти хочется.
Медовый месяц молодожены провели дома: оставить Сильву было не на кого, а взять с собою - немыслимо.
- Это просто невыносимо, - говорила Светлана. - А если нам действительно понадобится куда-нибудь уехать?
- Куда, например? - интересовался Борис Натанович.
- Да хоть к морю. Я так мечтаю о Крыме. Представь себе: Ялта, набережная, красивые загорелые люди...
- ...Убивающие друг друга буквально за место под солнцем. Светик мой, что за радость в этом вавилонском столпотворении?
- А что за радость провести всю жизнь в четырех стенах на Подоле? А если нам вообще придется уехать?
- Не понимаю, - по-мефистофелевски поднимал бровь Золотницкий. - Вы о чем, милая барышня?
- Боря, давай без этих штучек. Ты же видишь - все едут.
- Кто все? И куда?
- Дело не в том, куда, а в том, откуда. Мы ведь здесь по сути не живем.
- А что мы, позволь узнать, делаем?
- Выживаем. Как червяки в банке.
- Светлячок мой, - улыбался Борис Натанович, - так, ей-Богу, нельзя. С такими мыслями тебе везде будет плохо. Даже в Эдемском саду.
- А ты мне сначала покажи этот сад, - огрызалась Светлячок. - А там уж я решу, хорошо мне или плохо.
Так начались разговоры об отъезде и с тех пор уже не прекращались никогда.
- Меня поражает, Боренька, - долбящим, как бормашина, голосом повторяла Светлана, - почему я, русская, должна уговаривать тебя, еврея, ехать отсюда к чертовой матери.
- А с чего ты взяла, что всем евреям так уж хочется попасть к чертовой матери? - пожимал плечами Золотницкий.
- Перестань. Ты глуп и упрям. Когда я шла за тебя замуж...
- Понимаю. Когда ты шла за меня замуж, ты, наверно, думала, что на мне будет легче отсюда выехать.
- Не лги. Ты знаешь, что я тебя любила.
- Вот так? В прошедшем времени?
- Боже мой! Тебе обязательно нужно ловить человека на слове? Боренька, пойми, я ведь желаю счастья нам обоим.
- А как же Сильва?
- Вот! - восклицала Светлана. - Опять Сильва! Удивляюсь, как ты не положил ее между нами в брачную ночь.
- Светик! - изумлялся Борис Натанович. - У тебя совершенно больные эротические фантазии.
- Да, - неожиданно согласилась Светлана, - у меня больные фантазии. Я вообще больна - от этой собаки, от этой собачьей жизни, от этой серой и тупой беспросветности...
- Тебе так хочется в Израиль?
- Мне совсем не хочется в Израиль. Чего я там не видела - арабов с ружьями?
- Куда же ты хочешь?
- Куда хотят все нормальные люди. Ты помнишь Олю с Феликсом? Ты знаешь, что они послушались твоего свадебного совета и собираются в Америку? Боренька, давай подадим документы, а там уже будь что будет.
- А если я скажу "нет"?
- Значит, ты глупее и трусливей, чем я думала. Значит, ты состарился и закостенел настолько, что боишься начать жизнь с чистого листа.
Если и были слова, способные поколебать Золотницкого, то Светлана их - случайно или продуманно - нашла. Какому мужчине понравится услышать, что он трус, и какому мужу, вдвое старше жены, что он стар и закостенел? Борис Натанович сказал, что подумает, и едва он произнес эти слова, как из кухни раздался протяжный, на высоких нотах, скулеж Сильвы.
Далее время полетело, как во сне - не в том смысле, что быстро, а как-то полувнятно, неслитными картинками. Обрывки эти состояли из каких-то справок, платежей, хождений по инстанциям, чиновничьего хамства и человеческого унижения. Впрочем, неприятные эти хлопоты отвлекали Бориса Натановича от еще более неприятных мыслей о Сильве. Он понимал, что взять ее с собой - несбыточная фантазия, что любимая его Светик, Светлячок, Светлана никогда на это не согласится, а к жене он успел привязаться со всею тягой окльцованного старого холостяка к семейному счастью.
О чем думала Сильва - неизвестно. Она чувствовала беду, чувствовала, как отчаянно фальшиво нежен с нею ее хозяин, как молча торжествует ненавистная пришелица, завладевшая сердцем дорогого ей человека, и как стремительно сжимается в тугую материю время, чтобы однажды взорваться катастрофой.
Наконец, документы были на руках, билеты на венский рейс куплены, часть вещей распродана, остальные упакованы в сумки и чемоданы. Проводов решили не устраивать, Светлана отправилась на Константиновскую попрощаться с родителями, которые с некоторых пор видеть не желали Золотницкого, будучи в совершенной уверенности, что это он соблазнил их дочь к отъезду, сам же Борис Натанович зашел к тете Розе.
- Вот такие дела, Розалия Семеновна, - вздохнул он. - Сам не знаю, со мной это происходит или нет, и если со мной, то не во сне ли.
- Береле, - ответила тетя Роза, - если ты думаешь, что тебе снится кошмар, так я таки тебя утешу: о твоем кошмаре тихо мечтает пол-Подола.
- И вы тоже?
- Я? Боже упаси. Я таки умней, чем пол-Подола. Куда мне отсюда ехать? Я женщина немолодая, одинокая, а устраивать только собственную судьбу мне уже неинтересно.
- Тетя Роза, - смущаясь, проговорил Золотницкий, - может... чтобы вам было не так одиноко...
- Береле, - остановила его Розалия Семеновна, - если тебе так нравится начинать издалека, расскажи мне последние новости о сотворении мира. Езжай спокойно, возьму я твою собаку. Если, конечно, она сама захочет.
- Спасибо вам, тетя Роза. - Борис Натанович взял ее руку в свою и, наклонившись, поцеловал. - Скажите, вы меня очень осуждаете?
- Боренька, как я могу тебя осуждать? Ты галантен, как Голливуд.
- Я серьезно.
- И я. Я уже никого не осуждаю - с тех пор, как потеряла Давида и Марика с Левочкой. Хуже уже никто никому ничего не сделает. Приводи с утра свою собаку.
Утром Золотницкие привели Сильву к соседке.
- Спасибо вам за всё, Розалия Семеновна, - сказал тамада. - Смотрите за Сильвой. Я вам буду писать. Обязательно буду.
- Только пиши разборчивей и крупнее, - усмехнулась тетя Роза. - Не хочется при собаке надевать очки.
Борис Натанович и Светлана расцеловались с тетей Розой, которая, не удержавшись, всплакнула. Сильва глядела на них, уже всё понимая и всё-таки надеясь на какое-то внезапное, сумасшедшее чудо.
- Прощай, Сильва, - сказал Борис Натанович и наклонился к собаке, чтобы погладить ее.
Та отшатнулась. Казалось, что она сейчас тяпнет бывшего хозяина за руку, но она лишь коротко и как-то очень по-человечески посмотрела ему в глаза и беззвучно отошла в сторону.
- Идите, - велела тетя Роза, - идите, а то сейчас мы тут будем иметь и Содом, и Гоморру, и все остальные удовольствия.
Борис Натанович и Светлана вышли из квартиры соседки. За захлопнувшейся дверью секунду царило молчание, затем раздался протяжный, больше похожий на плач вой, который так же внезапно сменился отчая
ТАМАДА
На Щекавицкой улице, неподалеку от синагоги, жил самый, пожалуй, известный на всем Подоле человек. Своею популярностью он превосходил самого киевского раввина, не говоря уже о местном председателе райисполкома, который в силу своей должности старался как можно реже попадаться людям на глаза. Что ж до нашего героя, то этого удивительнейшего человека звали Борисом Натановичем Золотницким, внешне он напоминал несколько располневшего Мефистофиля средних лет, но славу ему принесла не внешность, а профессия, которая звучала необычно и на грузинский лад: тамада.
Есть люди, чье ремесло досталось им от Бога. Как правило, так говорят о поэтах, музыкантах, артистах или - на худой конец - ученых. На Подоле, однако, не требовалось особых талантов, чтобы достичь вершин на этих сомнительных поприщах. Артистом здесь называли (без особого, надо сказать, восторга) каждого второго ребенка, музыкантов (по той же причине) любили, как головную боль, поэтом считался любой, кто мог произнести зарифмованный тост, не слишком печась о стихотворном размере, а всякого, получившего высшее образование, почитали профессором. Совсем иное дело был тамада. На Подоле любили жениться и любили делать это красиво. Семейства побогаче снимали для этой цели ресторан "Прибой" на Речном вокзале, а то и "Динамо" в центре города. Люди победнее арендовали кафе или столовую или же обходились собственным двором, посреди которого устанавливался стол, на табуретки клались взятые из дровяного сарая доски, а кухни в квартирах новобрачных в течении двух дней напоминали геену огненную, откуда вместо плача и зубовного скрежета доносился грохот сковородок и кастрюль и такие смачные ругательства, что казалось, будто здесь готовятся не к свадьбе, а к войне.
Борис Натанович имел вкус и имел совесть. Он знал, с кого и сколько можно брать, и был равно добросовестен и искрометен что в ресторане, что посреди скромного и не слишком ухоженного двора.
- Кто не умеет писать эпиграмм, тот и оды не напишет, - объяснял он.
Даже когда слава Золотницкого перехлестнула границы Подола, достигнув самого аристократического Печерска и таких дремучих на ту пору окраин, как Нивки и Святошино, даже когда неофициальные его гонорары превысили самые смелые подольские фантазии, даже тогда ни разу не отказался он выступить тамадой на скромной дворовой свадьбе. Приглашали его к себе не только евреи, но и украинцы, и русские. Борис Натанович в совершенстве владел четырьмя языками и свободно переходил с одного на другой: с русского на украинский, с украниского на суржик, а с суржика на ту удивительную гремучую смесь русского, украинского и еврейского, на которой разговаривала половина Подола и которую сам он называл "сурдиш".
- Что нам делить? - пожимал плечами Борис Натанович. - Подол на семьдесят процентов еврейский район и на остальные тридцать тоже. Спросите любого, и он вам скажет, что у него ин кладовке аф дер полке штейт а банке мит варенье.
Свадьбы Золотницкий вел блестяще. Шутки и экспромты сыпались из него, как гречневая крупа из треснувшего кулька. Никогда они не были плоски, хотя временами, пожалуй, излишне солоноваты, но подгулявшим гостям нравилось, когда острота, выходя за рамки приличия, опускалась чуть ниже пояса.
- Берл, выдай перл! - требовали они.
Борис Натанович успокаивал их движением ладони и провозглашал:
- Предлагаю всем наполнить бокалы и выпить за жениха. За жениха и за тот нахес, который он доставит невесте. И пусть этот нахес послужит ему верой и правдой, потому что лучше, чтоб невесте было ночью чуточку больно, чем жениху утром чуточку стыдно.
От спиртного Борис Натанович категорически отказывался, лишь под занавес позволяя себе пригубить бокал шампанского.
- Если я начну выпивать на каждой свадьбе, - объяснял он, - то скоро буду работать тамадой в Кирилловке.
Неприятность с выпивкой произошла в самом начале его карьеры, едва не поставив на ней крест. Тогда, поддавшись уговорам хозяев и гостей, он оприходовал несколько рюмок водки и, когда подошло время очередной здравицы, к ужасу своему обнаружил, что забыл имя жениха.
- Дорогая Сонечка, - бодро проговорил он в микрофон. - Дорогой... - Тут он осекся, повернулся к одному из музыкантов и, понизив голос, но забыв убрать микрофон, осведомился:
- Рома, ты не помнишь, как зовут этого мудака?
- Аркадий, - выдавил из себя музыкант, прыснув так, что обдал брызгами свой инструмент.
Борис Натанович повернулся к остолбеневшим гостям, чарующе улыбнулся и продолжил:
- Раз-два-три, проверка микрофона. Дорогая Сонечка, дорогой Аркаша! Я желаю вам долгих лет жизни и короткой памяти. Пусть все неприятные моменты тут же изглаживаются из нее, так чтоб наговорив друг другу а пур верт вечером, вы забывали эти слова утром. Пусть вам живется и любится так сладко, чтоб всем остальным стало от зависти... ГОРЬКО!! - проревел он так залихватски, что клич его был тут же подхвачен всеми присутствующими.
История эта распространилась по Подолу со скоростью искры на бикфордовом шнуре. Все только и говорили о том, что за прелесть сморозил Золотницкий и как ловко он из этой ситуации выкрутился. Меньше всего разговоры эти понравились новоиспеченному мужу, котрый к вечеру явился к Борису Натановичу для расправы.
- Боря, - объявил он, - я пришел, чтобы набить тебе морду.
- Аркаша, если не ошибаюсь? - осведомился Золотницкий. - Да, это имя я уже вряд ли забуду. Так вот, Аркаша, я понимаю твое желание и даже где-то глубоко ему сочувствую. Но, - он развернул плечи, - ты посмотри на меня, а потом на себя в зеркало. Ничего хорошего из твоего желания не выйдет. Давай лучше выпьем по рюмке водки и забудем всё, как кошмарный сон со счастливым концом. Я сегодня свободен, ты, я так понимаю, тоже уже сделал свое дело. Выпьем, Аркаша.
Они выпили по рюмке водки, затем еще по рюмке, а затем еще и расстались к полуночи лучшими друзьями на свете. И роковая звезда, едва не повисшая над карьерой Золотницкого, оказалась счастливой звездой, ибо скандальная слава в глазах людей лучше невнятного бесславия.
Внешность Бориса Натановича как нельзя более способствовала его успеху. Он был не столько красив, сколько необыкновенен. Элегантная и поджарая до сорока лет фигура, высокий рост, темные глаза под сросшимися черными бровями, орлиный нос и завиток бородки делали его похожим на черта. Осенью и зимой он носил пальто и шляпу, летом облачался в легкий серый костюм.
- Я бы, конечно, с удовольствием прогуливался с тростью, - говорил он знакомым, - но в наше сумасшедшее время, увидев меня с тростью, люди примут меня не за аристократа, а за инвалида.
Частенько, выходя из своей квартиры на Щекавицкой в пятницу вечером, он встречался с соплеменниками, направлявшимися на службу в молитвенный дом.
- Добрый вечер, Борис Натанович, - говорили ему. - Что это вы навострились в другую сторону? Вы разве в синагогу не пойдете?
- Боже упаси! - отвечал Борис Натанович.
- Почему? Вы не верите, что есть Бог?
- Я не знаю, - улыбался Золотницкий, - кто там есть и что там есть, но я точно знаю, что синагога это не то место, где мне дадут выступить. Я, конечно, уважаю нашего ребе, но по роду занятий я привык говорить, а не слушать.
По подольским меркам жил Борис Натанович роскошно - один в двух комнатах с кухней. Кухня была большой, комнаты маленькими, зато в них имелся книжный шкаф, торшер, радиола и даже телевизор "Рекорд", поблескивающий стеклянным экраном с комода. Квартира осталась Борису Натановичу после смерти обоих родителей и, казалось, только ждала, когда хозяин введет под ее своды будущую супругу, но тот явно не торопился с женитьбой.
- Я уже побывал на стольких свадьбах, - с улыбкой говаривал он, - что своя мне не нужна.
Вместо этого он приводил домой молоденьких девушек, готовых разделить вечер со столь интересным мужчиной, к тому же известным и холостым. Соседи Золотницкого с удовольствием обсуждали меж собою его многочисленных юных пассий, но открыто своего мнения не высказывали. Исключение составляла лишь невоздержанная на язык Розалия Семеновна, необъятная и неуемная тетя Роза, которая потеряла в войну мужа и двух детей, но сохранила удивительное жизнелюбие и всё происходившее во дворе считала частью своей личной жизни. Проводив Бориса Натановича и его спутницу пристальным взглядом до самой двери, она пять минут спустя стучалась в нее и настойчиво требовала:
- Боря, ну-ка выйди ко мне на а пур верт.
Зная, что спорить с тетей Розой бесполезно, Борис Натанович, улыбнувшись гостье и пообещав не задерживаться, представал пред соседкины очи.
- Я вас внимательно слушаю, Розалия Семеновна.
- Боря, - нехорошим голосом начинала та, - ты давно перечитывал уголовный кодекс?
- С какого перепугу?
- Закрой рот и слушай меня. Если ты думаешь, что привел к себе а гройсер удовольствие, так ты таки ошибаешься. Ты привел а клейне статью.
- Тетя Роза, за кого вы меня принимаете? Ей уже, слава Богу, есть восемнадцать.
- Да? - ядовито интересовалась тетя Роза. - Это она тебе сказала? А что ее зовут Валентина Терешкова она тебе не сказала? Боренька, Береле, не будем идиотом. Сегодня она пришла одна, завтра придет с папой, а послезавтра с милицией. У тебя давно не было веселых минут?
Борис Натанович с улыбкой выслушивал тетю Розу, обнимал ее, целовал в щеку, возвращался к себе и прекрасно проводил вечер в приятной компании. Чем старше он становился, тем моложе оказывались его визитерши. Борис Натонович несколько располнел, под серым его костюмом начало проглядывать брюшко, но он по-прежнему оставался элегантен, остроумен и неотразим.
- Боря, - пеняла ему неугомонная тетя Роза, - сколько уже можно водить к себе пионэрок? Ты мешаешь девочкам учить уроки.
- Господь с вами, Розалия Семеновна, - в притворном ужасе махал руками Золотницкий. - Вы меня пугаете.
- Пусть уж лучше тетя Роза тебя на минуточку испугает, чем милиция сделает заикой на всю жизнь. Ты мне скажи, когда ты уже наконец женишься? Пожалей своих несчастных родителей, земля им пухом, дай им спокойно вздохнуть на том свете.
- Понимаете, Розалия Семеновна, - разводил руками тамада, - есть такой момент, когда жениться еще нельзя, и есть такой момент, когда жениться уже нельзя. Жениться нужно в промежутке между этими двумя моментами, но я его, кажется, пропустил.
- С чего это вдруг тебе уже нельзя жениться? - удивлялась тетя Роза. - Если тебя хватает на весь твой гарэм, то уж с одной ты как-нибудь справишься.
- Легче справиться с табуном, чем с одной лошадью, - вздыхал Золотницкий. - Вы же понимаете, тетя Роза, что жена и любовница - это две разные профессии.
- А, что я с тобой говорю, - безнадежно махала рукою тетя Роза. - Ты же типичный а идишер коп. Ты знаешь, что такое а идишер коп?
- Знаю, - отвечал Золотницкий. - Это большая умница.
- В твоем случае, - вздыхала Розалия Семеновна, - это два по полкило упрямства. Чтоб моим врагам так весело жилось, как с тобою можно спорить.
- Вот и не будем спорить, тетя Роза. Вы же знаете - где два еврея, там три мнения.
Одинокая жизнь приучила Бориса Натановича самому о себе заботиться: стирать, гладить, стряпать. И надо сказать, что поваром он был отменным. Раз в неделю, обыкновенно по пятницам, он отправлялся на Житний рынок, располагавшийся на ту пору под открытым небом в конце Нижнего Вала, и покупал там фрукты, овощи, мясо, птицу, соленья и даже столь некошерный для еврея продукт, как домашнее сало, нашпигованное чесноком. Здесь он тоже был известной личностью, торговки из окрестных сел мгновенно узнавали в пестрой толпе его статную фигуру, махали руками и горланили:
- О! Борыс Натановыч! Як здровъячко? Идить сюды, е щось для вас цикавэ.
Борис Натанович улыбался, подходил к подзывавшей его бабе, слегка кланялся и не без удовольствия переходил на украинский язык:
- Ну що, баба Таню, багато грошей сьогодни наторгувалы?
- Та це ж хиба торговля, - отвечала селянка. - Ци ж люды якщо у кишеню й полизуть, так тилькы щоб тоби звидты дулю достаты. А в мэнэ гляньтэ яка картопля: одна до однойи, круглэнька, ряднэнька, рожэва, як щочкы у дытыны. Це ж тилькы за тэ, щоб подывытыся, можна гроши браты.
- И на скилькы ж я вже надывывся? - интересовался Борис Натанович.
- Та Бог з вамы! Це ж я так... За пъятдэсят копийок кило виддам.
- Отакойи! - деланно удивлялся Борис Натанович. - А що, в сэли пожежа була чи злыва, що усю картоплю позатопыло?
- Ой, нэ прывэды Боже! - так же деланно пугалась баба Таня. - Що вы мэнэ, стару, лякаетэ.
- Так що вона, з золота, картопля ваша? Давайтэ за трыдцять.
- Та вы шо, сказылысь? За таку красу - трыдцять?
- Якбы я сказывся, так дав бы пъятдэсят. Що вы мэни ото про красу розповидаетэ? Я ж йийи йисты буду, а нэ цилуваты.
Наведываясь поначалу на рынок, Борис Натанович покупал всё подряд, не торгуясь, пока не заметил, что такое поведение удивляет и даже оскорбляет селян. Он понял, что сразу приобретая у них товар, он лишает их необходимой доли общения, выплеска чувств, накопленных за дни и недели тяжелого крестьянского труда. Эти простые с виду, но наделенные удивительной смекалкой и чутьем мужики и бабы воспринимали его нежелание торговаться как пренебрежение к ним. Тогда он осторожно, соблюдая меру, принимался сбавлять цену, торговцы тут же вступали с ним в спор, и слово за слово, день за днем, год за годом они, что называется, притерлись друг к другу.
- Ну, визьмэтэ за пъятдэсят? - сурово спрашивала баба Таня.
- Баба Таня, - отвечал Борис Натанович, - у вас е ручка чи оливэць?
- Оливэць е, - удивлялась та. - А що?
- Так вы визьмить вашого оливця и напышить у мэнэ на лоби: "Борис Натанович - идиот". Вы ж мэнэ за идиота вважаетэ, якщо хочэтэ мэни оци клубни за пъятдэсят копийок втюхаты.
В конце концов, они сходились на сорока копейках, менялись товаром и деньгами, смотрели друг на друга, качали головами и восклицали одновременно:
- Грабиж!
Накупив овощей и солений, Золотницкий обыкновенно сворачивал к мясным "рундукам", у которых неизменно околачивались стайки собак. Собаки были неотъемлимой частью здешнего пейзажа, их знали, на них покрикивали, но не трогали, их подкармливали костями, требухой и мясными ошметками, а в подаренных им кличках как ни в чем другом, пожалуй, проявилась недюжинная фантазия обитателей Житнего рынка. Здесь не было Шариков, Жучек и Палканов, зато имелись Мазепа, Шелудявка, Карацупа, Мухомор, Кацап, Голожопый и даже Баба Нюра. На случайного посетителя, забредшего к "рундукам", нападал, бывало, столбняк, когда он слышал раскатистый бас изнутри:
- Эй, Кацап, тащи сюды свою Бабу Нюру, обом по печинци дам!
Однажды среди знакомого собачьего кворума Борис Натанович заметил новенькую псину, такую же дворнягу, но на редкость изящной формы, черную, с рыжими подпалинами. Роста она была небольшого, морда у нее была худая и вытянутая, уши опущены книзу, а в карих глазах застыла то ли горечь, то ли тоска.
- Ты кто такая будешь? - спросил Борис Натанович, остановившись и с интересом уставившись на собаку.
Та глянула на него в ответ, несколько раз моргнула и отвернулась.
- Мить, - окликнул Золотницкий мясника, - что это за пополнение?
- Та прыблудный якийсь элемент, - отозвался Митя, здоровенный детина в заляпанном кровью белом фартуке, обожавший читать и покушавшийся на образованность. - Йийи Голожопый з собою прысовокупил, думав знайшов соби подругу, а вона на нього ноль внимания. - Митя хохотнул. - Хотив до нэйи пидступытыся, так вона його так тяпнула, що вин на тры парсека попэрэд свого визгу лэтив.
- Ты дывы яка, - Борис Натанович присел перед собакой на корточки. - Ну и як цю барыню зваты?
- Та Сыльвою йийи клычуть.
- Як? - удивился Борис Натанович.
- Сыльвою. Тут такый дидок був, интэлэгэнтный, у окулярах, так цэ вин йийи так охрэстыв. Вона в вас, кажэ, нэ гавкае, а спивае. Просто, кажэ, Сыльва. А що за Сыльва - бис його знае.
- Слышь, Мить, - сказал Золотницкий, переходя отчего-то на русский язык, - а она точно ничья?
- Кажу ж - прыблудна.
- Если что, я б ее купил.
- Та вы що, здурилы, Борыс Натановыч, - изумился Митя. - У кого б купылы? Мы тут, слава Богу, собачатиною нэ торгуемо. Такэ кажэтэ, шо слухаты нэ гигиенично. Шо вы нам рэпутацию мочыте?
- Так ее можно взять?
- Та бэрить соби! Тильки на шо вона вам? Вона ж нэцивилизована. Голожопого тяпнула, а то щэ тут така гражданочка гуляла, з пуделем у комбизони, так оця тварюка так на того пуделя вышкирилась, шо у того, мабуть, инфаркт зробывся.
- Знаешь что, Митя, - задумчиво проговорил Золотницкий, - куплю-ка я у тебя два кило говядины.
- Оце для нэйи? - Митя кивнул на Сильву. - Ну-ну. Говъядина сьогодни по чоторы карбованця в рублях.
Борис Натанович, не вступая на сей раз в торги, заплатил червонец, отказался от сдачи и повернулся к собаке.
- Ну что, Сильва, - сказал он, пристально глядя ей в глаза, - пойдешь со мной? Заставлять не буду, мясом соблазнять не буду. Решай, как знаешь.
Сильва поднялась с земли, подошла к нему вплотную, понюхала кулек с мясом, затем штанину серых брюк, подняла голову вверх и пару раз тявкнула.
- Ну вот, а говорят, ты лаять не умеешь, - усмехнулся Золотницкий. - Что, Сильва, вот и встретились два одиночества. Пойдем. До свидания, Митя.
- Бувайтэ, - несколько обиженный быстрой сделкой, произнес Митя. - Отже ж дурна людына! - тихо добавил он вслед Золотницкому. - И на шо йому ота дворняга? За свойи гроши пры такой меркантильности мог бы соби пуделя купыты.
Человек и собака стали жить под одной крышей. Сильва, казавшаяся поначалу и в самом деле дикой, как-то на удивление быстро то ли одомашнилась, то ли просто привязалась к тамаде. Нет, она не бегала за ним по всей квартире и не вертелась у него под ногами, но с какой-то собачьей чуткостью улавливала те мгновения, когда ее общество было ему необходимо. Тогда она подходила к Борису Натановичу и клала ему на колени голову или просто лежала у его ног, покуда тот сидел в кресле с какой-нибудь книгой, и это крохотное отдаление делало еще ощутимее их внутреннюю близость. Наконец, Борис Натанович откладывал книгу, потягивался в кресле, гладил собаку и спрашивал:
- Ну что, Сильва, пойдем гулять?
Оба страшно полюбили эти прогулки вдвоем. Несмотря на беспородность Сильвы, они удивительно красиво и слитно гляделись вместе, а в октябре, когда асфальт темнел от дождя и тело его покрывалось рыжими мазками опавших листьев, Борис Натанович в своем черном пальто и черной шляпе и Сильва, черная от природы, с рыжими подпалинами, казались такой же неотъемлимой частью Подола, как дома и деревья. Бродили они долго и неторопливо, словно страницы огромной книги листая уютные названия подольских улиц: Щекавицкая, Почайнинская, Верхний и Нижний Вал... Они шли мимо Флоровского монастыря и Гостинного двора на Контрактах, сворачивали на дребезжащую от трамваев Константиновскую и, сделав круг, возвращались домой. Подол никогда не надоедал им, Борис Натанович, который к тому времени вел свадьбы по всему Киеву, от Соломенки до Дарницы, возвращался сюда, в Нижний Город, с облегчением, словно из долгой изнурительной командировки.
- Понимаешь, Сильва, - говорил он, - все эти Печерски, Крещатики и иже с ними - всё это так, между прочим. Верхний Город - он, конечно, голова, но сердце Киева - здесь, на Подоле. Надеюсь, ты не станешь со мной спорить?
Сильва не спорила с ним. Она вообще оказалась на редкость молчаливой собакой, вопреки своему опереточному имени. Лишь когда Золотницкий отправлялся веселить народ на свадьбах, оставляя ее на попечение тети Розы, она принималась скулить высоким сопрано.
- Перестань уже надрывать мне сердце, - умоляла ее тетя Роза. - Придет твой Береле, никуда не денется. Боже мой, я всегда считала наш двор лучшим на всем Подоле - здесь, тьфу-тьфу-тьфу, не было ни одного вундеркинда со скрипкой. Так теперь мы тут имеем свою певицу! А зохен вей и танки наши быстры... Закрой уже рот и скушай курочку.
Сильва отказывалась от курочки, вообще не прикасалась к еде, пока во дворе не раздавались шаги ее любимого человека. Тогда скулеж ее сменялся на лай, она подбегала к двери и царапала ее, меж тем как в замочной скважине вращался ключ, и лишь когда отгулявший тамада входил в квартиру, успокаивалась и, лизнув его в руку, ложилась у кресла в гостинной.
- Ну, как вы тут без меня? - интересовался Борис Натанович у тети Розы.
- Ты меня спрашиваешь? - отвечала та. - Так я тебе скажу, что в Кирилловке таки спокойней. Зачем нам ехать куда-то на Куреневку, если у нас на Подоле теперь свой сумасшедший дом. Поздравляю, Боренька, я тебе, конечно, не такой жены желала, но лучшую ты уже вряд ли найдешь.
Борис Нитанович, которому на ту пору уже стукнуло сорок пять, и в самом деле давно смирился с тем, что жены у него нет и не будет. С появлением Сильвы молодые девушки в его доме также сделались из правила исключением. В их присутствии Сильва из милой животинки превращалась в ревнивую мегеру, демонстративно уходила на кухню, а в самый ответственный и интимный момент принималась выть, достигая в своих ариях такого душевного надрыва, что ее опереточная тезка показалась бы в сравнении дешевой кокеткой.
- Послушайте, Борис, - возмущалась очередная гостья, - ведь так же совершенно невозможно. Успокойте ваше животное.
- Бесполезно, - вздыхал Золотницкий. - Когда Сильва поет, лучше к ней не подходить. Вы же знаете, золотце, что такое душа артиста. Расслабьтесь и не обращайте внимания. Представьте себе, что это волки воют в лесу, а мы с вами находимся в шалаше посреди этого леса. Ведь с милым и в шалаше рай, не правда ли?
- Знаете что, Боря, - отвечала гостья, начиная одеваться, - если вы такой большой романтик, то водите к себе всяких шалашовок. А я девушка из культурной семьи и не привыкла, чтоб у меня выли под ухом, когда я всю себя отдаю. Так что, до свидания, провожать меня не надо, оставайтесь тут и пойте с ней дуэтом.
- Сильва, - сурово сдвинув брови, обращался к собаке Золотницкий, когда дверь за визитершой захлопывалась, - как прикажешь тебя понимать? Что это, прости великодушно, за сучьи выходки? Ты давно не была у живодера?
Сильва весело махала хвостом в ответ, словно давала понять, что ни тон Золотницкого, ни его угроза отвести ее на живодерню ничуточки ее не испугали. Напротив - у нее теперь на душе легко и радостно, они снова вдвоем, и стоит ли о том печалиться, что какая-то двуногая бестия оставила их, наконец, в покое.
Однажды Борис Натанович присутствовал в качестве тамады на очередной свадьбе в ресторане "Прибой". Свадьба эта была не совсем обычной, поскольку жених, дородный и кучерявый Феликс, был евреем, а невеста, тоненькая, как кошачий усик, Оленька, была русской. В тот вечер Борис Натанович, пользуясь случаем, показывал высший пилотаж. Он говорил о загадочной русской душе, на которую свалилось девяносто пять кило еврейского счастья; он напомнил, что муж должен быть в семье головой, а жена ее сердцем, особенно когда голова эта еврейская, а сердце русское; он посулил большое будущее этому браку и его плодам.
- Хорошо, когда есть выбор, - сказал он. - Если вы останетесь здесь, ваши дети будут считаться русскими, потому что русский это не национальность, а алиби. Если же вы решите уехать, то они тут же станут евреями, потому что еврей это тоже не национальность, а средство передвижения.
Гости хохотали, со вкусом пили и с аппетитом закусывали, а свидетельница невесты Светлана, очаровательная русская девушка лет двадцати четырех, с интересом поглядывала на Бориса Натановича. Когда застолье подошло к концу и гости начали расходиться, она приблизилась к Золотницкому и с улыбкой обронила:
- А вы еще красноречивей, чем о вас говорят.
- Драгоценная моя, - улыбнулся в ответ Борис Натонович, - мое красноречие не идет ни в какое сравнение с моим краснодействием.
- Ого! - вскинула брови Свтлана. - Вы, я смотрю, не снижаете оборотов.
- Если жеребца всякий раз останавливать на полном скаку, - Борис Натанович взял ее за руку, - у него, в конце концов, начнется одышка.
- У вас красивая рука, - заметила Светлана, - прямо как у аристократа.
- Я и есть аристократ, учитывая, что моему роду около пяти тысяч лет, если считать от Авраама. Светочка, вы не проводите меня домой? Я очень боюсь хулиганов.
- А что скажет ваша жена?
- Ничего не скажет, будьте уверены. Разве что немного полает.
- Что значит полает? - удивилась Свтлана.
- Она у меня, изольте видеть, четвероногая. Да вы не пугайтесь, - поспешно добавил он. - На самом деле я одинок, как тургеневский Герасим, у которого не было никого, кроме собаки, да и ту пришлось утопить.
- Ну, на Герасима вы не очень похожи, - усмехнулась Светлана. - Глухонемым вас никак не назовешь. Так вы с собакой живете?
- Вас это пугает?
- Меня трудно испугать. А на какой улице?
- Относительно недалеко. На Щекавицкой, возле синагоги.
- На Щекавицкой? - Светлана поморщилась. - Такой известный человек - и вдруг на Щекавицкой?
- А вы, наверное, на Жданова живете, - несколько задето ответил Золотницкий. - Или по меньшей мере на Константиновской.
- На Константиновской, - кивнула Светлана. - У кинотеатра "Октябрь". А как вы догадались?
- Очень просто. С тех пор, как по Константиновской улице пустили трамвай, тамошние люди стали думать, что они живут на Бродвее. Если вы им скажите, что вы со Щекавицкой или - упаси Боже - с Еленовской, они будут здороваться с вами двумя пальцами.
Светлана несколько странным взглядом посмотрела на Золотницкого.
- Придется вас проводить, - вздохнула она. - А вдруг и в самом деле хулиганы... Нельзя же лишать Подол такой достопримечательности, даже если она живет на Щекавицкой улице.
Два эти человека, невзирая на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте, на удивление быстро и легко сошлись.
- Я тебе поражаюсь, Светочка, - говорил Борис Натанович. - Ты, такая молодая, такая красивая, и до сих пор была одна!
- Во-первых, я редко была одна, - в тон ему отзывалась Светлана, - а во-вторых, Боря, мне еще ни разу не попадался человек, с которым мне хотелось бы всегда быть вместе.
- А я - такой человек?
- Ты, во всяком случае, человек с которым мне не хотелось бы расставаться.
- А то, что я тебя вдвое старше?
- Боренька, жизнь и математика - это, как у вас говорят, две большие разницы. Даже если мою жизнь помножить на два, всё равно не получится одна твоя.
Тете Розе Светлана не понравилась.
- Красивая, но чересчур умная, - заявила она.
- Что ж в этом плохого, Розалия Семеновна? - удивился Золотницкий.
- Боренька, ты еще мальчик и многого не понимаешь. Когда русская шиксе красива - это нормально. Когда русская шиксе собирается еще быть умной - это таки может кончится катастрофой.
- Тетя Роза, - улыбнулся Борис Натанович, - у меня, хоть я еще и "мальчик", было уже столько дур, что я немного соскучился по умной.
Но хуже было то, что Светлана с первого взгляда не понравилась Сильве. Поначалу та просто и, не скрывая угрозы, рычала на непрошенную гостью, вознамерившуюся стать в этом доме хозяйкой; когда же Борис Натанович пожурил ее за такое поведение, стала подчеркнуто Светлану игнорировать. Светлана, привыкшая, видимо, ко всеобщему обожанию, оскорблялась и платила собаке взаимной антипатией. Чуткий, как барометр, Золотницкий, оказавшийся внезапно меж двух огней, пытался как-то сгладить неприятную ситуацию и увещевал обеих:
- Девочки, перестаньте ссориться. В конце концов это просто неприлично. Вы подумали о моей репутации? Не хватало, чтобы люди говорили, будто меня ревнуют друг к другу женщина и собака.
- Кто ж виноват, что твоя собака относится к тебе, как к мужчине, - сердито отрезала Светлана.
Наконец, Золотницкий понял, что пора ставить точку в этой чересчур затянувшейся фразе, и сделал Светлане предложение. Та, не задумываясь ни на секунду, его приняла. Свадьбу решили справлять широко, но возникли проблемы с тамадой - никто из собратьев Бориса Натановича по ремеслу не отважился взять на себя эту роль.
- Нужно быть идиотом и самоубийцей, чтобы выступать тамадой в присутствии Золотницкого, - сказали они.
Наконец, удалось соблазнить на это рискованное мероприятие совсем юного, начинающего тамаду, внушив ему, что вести свадьбу самого Золотницкого - блестящая реклама для будущей карьеры. Играли свадьбу всё в том же ресторане "Прибой" (как истинный патриот Подола Борис Натанович категорически отказался от престижного "Динамо"). Избранный на роль тамады юнец поначалу смущался и невнятно мямлил, так что Золотницкому чуть ли не силой пришлось влить в него две рюмки водки.
- Смелее, мой юный коллега, - напутствовал он. - Не нужно дрейфить, вы же не корабль. Вас как зовут? Жора? Очень хорошо. Выпейте еще рюмку, Жора. Вот, отлично. Как вас зовут? По-прежнему Жора? Значит, свое имя вы еще помните. А если вдруг забудете мое, то на всякий случай сообщаю вам, что этого мудака - в смысле, меня - зовут Борисом. Ах, как вы напоминаете мне самого себя в начале карьеры!
Юный Жора, знавший Золотницкого в основном по фамилии, и в самом деле намертво зафиксировал в сознании имя жениха; до такой степени намертво, что забыл имя невесты.
- Дорогие... - начал он очередной тост и застыл с открытым ртом. Лицо его сперва изобразило отчаяние, затем вдруг просветлело, и он выпалил:
- Дорогие Адам и Ева! Да-да, я не оговорился. Каждый жених - это Адам, а каждая невеста - Ева, ибо всё возвращается на круги своя. И всякий раз мы будем надкусывать пресловутое яблоко, расставаясь с вечным, но скучным блаженством ради сиюминутного, но пронзительного счастья. А поскольку закусывать следует лишь после того, как выпьешь, предлагаю всем поднять бокалы и осушить их до дна за жениха и невесту, выпить и почувствовать как нам... ГОРЬКО!
- Браво! - раздался голос Бориса Натановича. - Друзья, запомните этого мальчика. Когда Золотницкий уйдет на пенсию и будет выращивать на подоконнике бегонии и алоэ, ему будет спокойно и приятно знать, что его место, хоть оно не так уж и свято, но не пусто. Жора, представьтесь нам полностью.
- Серебрянский, Георгий Яковлевич, - зарделся молодой человек.
- Отлично. Золотницкий, Серебрянский... Чувствуется преемственность. Дорогие мои, давайте уважим Георгия Яковлевича - вы пейте, а я поцелую невесту, потому что, во-первых, вернее, во-вторых, так велел Георгий Яковлевич, а во-вторых, вернее, во-первых, потому что мне самому этого до смерти хочется.
Медовый месяц молодожены провели дома: оставить Сильву было не на кого, а взять с собою - немыслимо.
- Это просто невыносимо, - говорила Светлана. - А если нам действительно понадобится куда-нибудь уехать?
- Куда, например? - интересовался Борис Натанович.
- Да хоть к морю. Я так мечтаю о Крыме. Представь себе: Ялта, набережная, красивые загорелые люди...
- ...Убивающие друг друга буквально за место под солнцем. Светик мой, что за радость в этом вавилонском столпотворении?
- А что за радость провести всю жизнь в четырех стенах на Подоле? А если нам вообще придется уехать?
- Не понимаю, - по-мефистофелевски поднимал бровь Золотницкий. - Вы о чем, милая барышня?
- Боря, давай без этих штучек. Ты же видишь - все едут.
- Кто все? И куда?
- Дело не в том, куда, а в том, откуда. Мы ведь здесь по сути не живем.
- А что мы, позволь узнать, делаем?
- Выживаем. Как червяки в банке.
- Светлячок мой, - улыбался Борис Натанович, - так, ей-Богу, нельзя. С такими мыслями тебе везде будет плохо. Даже в Эдемском саду.
- А ты мне сначала покажи этот сад, - огрызалась Светлячок. - А там уж я решу, хорошо мне или плохо.
Так начались разговоры об отъезде и с тех пор уже не прекращались никогда.
- Меня поражает, Боренька, - долбящим, как бормашина, голосом повторяла Светлана, - почему я, русская, должна уговаривать тебя, еврея, ехать отсюда к чертовой матери.
- А с чего ты взяла, что всем евреям так уж хочется попасть к чертовой матери? - пожимал плечами Золотницкий.
- Перестань. Ты глуп и упрям. Когда я шла за тебя замуж...
- Понимаю. Когда ты шла за меня замуж, ты, наверно, думала, что на мне будет легче отсюда выехать.
- Не лги. Ты знаешь, что я тебя любила.
- Вот так? В прошедшем времени?
- Боже мой! Тебе обязательно нужно ловить человека на слове? Боренька, пойми, я ведь желаю счастья нам обоим.
- А как же Сильва?
- Вот! - восклицала Светлана. - Опять Сильва! Удивляюсь, как ты не положил ее между нами в брачную ночь.
- Светик! - изумлялся Борис Натанович. - У тебя совершенно больные эротические фантазии.
- Да, - неожиданно согласилась Светлана, - у меня больные фантазии. Я вообще больна - от этой собаки, от этой собачьей жизни, от этой серой и тупой беспросветности...
- Тебе так хочется в Израиль?
- Мне совсем не хочется в Израиль. Чего я там не видела - арабов с ружьями?
- Куда же ты хочешь?
- Куда хотят все нормальные люди. Ты помнишь Олю с Феликсом? Ты знаешь, что они послушались твоего свадебного совета и собираются в Америку? Боренька, давай подадим документы, а там уже будь что будет.
- А если я скажу "нет"?
- Значит, ты глупее и трусливей, чем я думала. Значит, ты состарился и закостенел настолько, что боишься начать жизнь с чистого листа.
Если и были слова, способные поколебать Золотницкого, то Светлана их - случайно или продуманно - нашла. Какому мужчине понравится услышать, что он трус, и какому мужу, вдвое старше жены, что он стар и закостенел? Борис Натанович сказал, что подумает, и едва он произнес эти слова, как из кухни раздался протяжный, на высоких нотах, скулеж Сильвы.
Далее время полетело, как во сне - не в том смысле, что быстро, а как-то полувнятно, неслитными картинками. Обрывки эти состояли из каких-то справок, платежей, хождений по инстанциям, чиновничьего хамства и человеческого унижения. Впрочем, неприятные эти хлопоты отвлекали Бориса Натановича от еще более неприятных мыслей о Сильве. Он понимал, что взять ее с собой - несбыточная фантазия, что любимая его Светик, Светлячок, Светлана никогда на это не согласится, а к жене он успел привязаться со всею тягой окльцованного старого холостяка к семейному счастью.
О чем думала Сильва - неизвестно. Она чувствовала беду, чувствовала, как отчаянно фальшиво нежен с нею ее хозяин, как молча торжествует ненавистная пришелица, завладевшая сердцем дорогого ей человека, и как стремительно сжимается в тугую материю время, чтобы однажды взорваться катастрофой.
Наконец, документы были на руках, билеты на венский рейс куплены, часть вещей распродана, остальные упакованы в сумки и чемоданы. Проводов решили не устраивать, Светлана отправилась на Константиновскую попрощаться с родителями, которые с некоторых пор видеть не желали Золотницкого, будучи в совершенной уверенности, что это он соблазнил их дочь к отъезду, сам же Борис Натанович зашел к тете Розе.
- Вот такие дела, Розалия Семеновна, - вздохнул он. - Сам не знаю, со мной это происходит или нет, и если со мной, то не во сне ли.
- Береле, - ответила тетя Роза, - если ты думаешь, что тебе снится кошмар, так я таки тебя утешу: о твоем кошмаре тихо мечтает пол-Подола.
- И вы тоже?
- Я? Боже упаси. Я таки умней, чем пол-Подола. Куда мне отсюда ехать? Я женщина немолодая, одинокая, а устраивать только собственную судьбу мне уже неинтересно.
- Тетя Роза, - смущаясь, проговорил Золотницкий, - может... чтобы вам было не так одиноко...
- Береле, - остановила его Розалия Семеновна, - если тебе так нравится начинать издалека, расскажи мне последние новости о сотворении мира. Езжай спокойно, возьму я твою собаку. Если, конечно, она сама захочет.
- Спасибо вам, тетя Роза. - Борис Натанович взял ее руку в свою и, наклонившись, поцеловал. - Скажите, вы меня очень осуждаете?
- Боренька, как я могу тебя осуждать? Ты галантен, как Голливуд.
- Я серьезно.
- И я. Я уже никого не осуждаю - с тех пор, как потеряла Давида и Марика с Левочкой. Хуже уже никто никому ничего не сделает. Приводи с утра свою собаку.
Утром Золотницкие привели Сильву к соседке.
- Спасибо вам за всё, Розалия Семеновна, - сказал тамада. - Смотрите за Сильвой. Я вам буду писать. Обязательно буду.
- Только пиши разборчивей и крупнее, - усмехнулась тетя Роза. - Не хочется при собаке надевать очки.
Борис Натанович и Светлана расцеловались с тетей Розой, которая, не удержавшись, всплакнула. Сильва глядела на них, уже всё понимая и всё-таки надеясь на какое-то внезапное, сумасшедшее чудо.
- Прощай, Сильва, - сказал Борис Натанович и наклонился к собаке, чтобы погладить ее.
Та отшатнулась. Казалось, что она сейчас тяпнет бывшего хозяина за руку, но она лишь коротко и как-то очень по-человечески посмотрела ему в глаза и беззвучно отошла в сторону.
- Идите, - велела тетя Роза, - идите, а то сейчас мы тут будем иметь и Содом, и Гоморру, и все остальные удовольствия.
Борис Натанович и Светлана вышли из квартиры соседки. За захлопнувшейся дверью секунду царило молчание, затем раздался протяжный, больше похожий на плач вой, который так же внезапно сменился отчая

Sem.V.- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 88

Страна : Город : г.Акко
Город : г.Акко
Район проживания : Ул. К.Либкнехта, Маяковского, Н.Ивановская, Сестер Сломницких
Место учёбы, работы. : ж/д школа, маштехникум, институт, з-д Прогресс
Дата регистрации : 2008-09-06 Количество сообщений : 666
Репутация : 695
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
 Spasibo.
Spasibo.
Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Отрывок из рассказа Эфроима Савела>
Эфраим Севела. Остановите самолет -- я слезу!
---------------------------------------------------------------
© Copyright 1977 Эфраим Севела
Изд: Gesamtherstellung: F. Zeuner Buch- und Offsetdruck,
Peter-Mullerstr. 43, 8000 Munchen 50,
Printed in West Germany
OCR: Олег Волков
---------------------------------------------------------------
Красивая, 23 года, тугоухая,
говорит немножко на русском,
грузинском и иврите ХОЧЕТ
познакомиться с подходящим молодым
человеком -- тугоухим или
глухонемым с целью замужества.
Из объявлений в израильской
газете на русском языке "Наша
страна".
Международный аэропорт им.
Дж. Ф. Кеннеди в Нью-йорке.
Борт самолета ТУ-144
авиакомпании "Аэрофлот".
Температура воздуха
за бортом +28 С.
-- Здравствуй, жопа, Новый Год!
О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это вслух. Я только подумал
так. Внутренний голос, как говорят киношники.
Но слово -- не воробей, вылетело -- не поймаешь. Поэтому еще раз прошу
прощения, не сердитесь, не будем портить себе нервы. Так уж получилось, что
рядом со мной сели вы, а не вон та блондинка. Я держал это место для нее --
думал, сядет. А сели вы...
Значит, мы с вами -- соседи. И лететь нам вместе в этом прекрасном
самолете отечественного производства четырнадцать часов от города Нью-Йорка
до столицы нашей родины Москвы. Поэтому не будем ссориться с самого начала,
а лучше скоротаем время в интересной беседе и, возможно, если повезет,
услышим что-нибудь новенького. Как сказал Сема Кац -- пожарный при одном
московском театре.
Вы не знаете эту историю? Слушайте, вы много потеряли. Эта история с
бородой, ей было сто лет еще до того, как я очертя голову покинул Москву,
чтобы жить на исторической родине.
Вы не знаете, что такое историческая родина? Сразу видно, не еврей.
Любой советский еврей -- сионист или антисионист, коммунист и беспартийный,
идеалист и спекулянт, круглый дурак и почти гений -- уж что-что, а что такое
историческая родина, ответит вам даже в самом глубоком сне.
Но вы русский человек, это видно с первого взгляда, и зачем вам ломать
голову: что такое историческая родина -- когда родина у вас была. есть и
будет, и это понятно и естественно, как то, что мы с вами дышим. А у евреев
с этим вопросом не все гладко, и поэтому тоже понятно, почему им не нужно
объяснять, что такое историческая родина.
Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Вернемся к нашему пожарному
Семе Кацу. Из московского театра. А насчет исторической родины мы успеем еще
обменяться мнениями. Впереди долгий путь и много времени. Я, как видите,
поговорить люблю, а вы, как я вижу, умеете слушать. Неплохая пара -- гусь да
гагара. Это и называется приятным обществом.
Все! Хватит трепаться, переходим к делу. Евреи, как мы с вами знаем,
народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт
Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея
мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не
найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый
Михаил Ломоносов.
Пожарный Сема Кац, который каждый божий вечер, когда шел спектакль в
театре, дежурил за кулисами на случай пожара, чтоб без паники и желательно
без смертельных ожогов эвакуировать публику из зала, если пожар все же
случится, относился ко второй категории евреев, то есть, не к тем, что дали
миру Альберта Эйнштейна и основоположника научного марксизма. Сема Кац, хоть
удачно выдал замуж двух дочерей и был дедушкой, отличался дремучим
невежеством и наивностью новорожденного. Он знал только свою профессию и был
без ума от театра. До того без ума, что мог в сотый раз с интересом смотреть
одну и ту же пьесу. И поскольку стоило закрыться занавесу, как все начисто
улетучивалось из его головы, то назавтра он с неменьшим увлечением слушал
тот же текст, стоя за кулисами и разинув рот от удовольствия.
Так вот как-то раз этот самый Сема Кац потряс всю театральную Москву.
Актеры, зная преданность пожарного Каца театру, великодушно позволяли ему
сопровождать их после спектакля до метро и молча слушать их треп. Сема Кац
один единственный раз вмешался в разговор, и этого ему было достаточно,
чтобы прославиться на всю Москву. И ее окрестности.
Актеры спорили о чем-то, шагая в сопровождении пожарного к метро, и
кто-то, доказывая свою правоту, сказал:
-- Это так же реально, как и то, что земля круглая.
-- Земля круглая? -- не выдержал пожарный Кац и рассмеялся этому, как
удачной шутке.
Оторопевшие актеры, которые никак не ожидали обнаружить в середине
двадцатого столетия в столице державы, запускающей спутники, такого мамонта,
стали популярно разъяснять ему все, что знает крошка-школьник. Сема Кац
слушал, как волшебную сказку, и у входа в метро, когда прощался с актерами,
сказал растроганно:
-- Вот почему я люблю с вами гулять -- от вас всегда узнаешь что-нибудь
новенького.
Прелестно! Я очень доволен, что удалось вас рассмешить. Значит,
конфликт исчерпан, и мы можем познакомиться поближе.
Разрешите представиться. Рубинчик. Аркадий Соломонович. Сын, как
говорится, собственных родителей. По профессии -- увы! -- парикмахер.
Дамский и мужской. Не смотрите на меня так. Да, да. Парикмахер. И если вам
показалось, что я кто-нибудь другой, то не вы первый ошибаетесь. Я --
парикмахер высшего разряда. Гостиницу "Интурист" в Москве знаете? Там
работал ваш покорный слуга и обслуживал исключительно высший свет --
дипломатов, туристов, а главное, московский мир искусств. Все головы этого
мира обработаны мною, и по закону сообщающихся сосудов кое-что оттуда
перешло ко мне. Неплохо?
Каждый писатель из моих постоянных клиентов считал своим долгом
обязательно дарить мне экземпляр только что вышедшей книги с соответствующей
надписью и потом, приходя стричься или бриться, считал неменьшим долгом
спрашивать, как мне понравилось прочитанное, а чтобы я не увиливал,
выпытывал конкретно, по главам.
Воленс-неволенс, мне приходилось всю эту муру не только читать, но и
запоминать, чтобы не лишиться постоянных клиентов, которые как инженеры
человеческих душ знают, что мастер тоже человек и ему надо оставлять на чай,
иначе он протянет ноги, и некому будет работать над их талантливыми
головами. Я не имею в виду идеологическую обработку. Это делали в другом
месте.
Весь прочитанный мною винегрет и услышанные разговоры деятелей искусств
-- ведь уши не заткнешь -- застряли в моей голове, и когда я открываю рот и
начинаю говорить, многие ошибаются н принимают меня за писателя. Средней
руки. Боже упаси! У меня есть моя профессия, и она меня пока еще кормит. И
не место красит человека, а совсем наоборот: человек -- место. Поэтому я, в
отличие от некоторых, никогда не скрываю, кто я в действительности такой.
Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру
сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак.
Правда, меня утешает одно обстоятельство. То, что я не одинок в своем
идиотизме. Добрая сотня тысяч советских евреев проделала то же самое, и
скажу вам откровенно, с неменьшим успехом. И ходят теперь все лысыми. Потому
что потом рвали волосы у себя на голове.
Но об этом после. Времени у нас -- уйма.
Посмотрите, пожалуйста, вон та блондинка, на три ряда впереди, не на
нас с вами оглядывается? Да. Роскошные волосы. Скажу по совести, на каждую
женщину, которая чего-нибудь стоит, я сперва кладу профессиональный взгляд.
Волосы, косметика. У стоящей женщины это дело всегда на высоте.
Вот и на эту блондинку я еще в аэропорту Кеннеди обратил внимание из-за
ее шикарных волос. Потом оказалось, что и фигурка не подкачала. И нос на
месте. И глаза без бельма. Что еще мужчине надо?
Тогда я стал смотреть на нее в упор -- это у меня такой метод еще с
юности, когда я жил в городе Мелитополе, -- и стал мысленно ей внушать:
"Ты сядешь в самолете рядом со мной... сядешь рядом со мной... это твой
шанс... не проходи мимо своего счастья..."
Я сверлил взглядом ее затылок, пока у нас принимали ручную кладь,
потом, когда мы спешили по длинному туннелю к самолету, и в самом самолете.
Я повторял мое заклинание до тех пор, пока... рядом со мной не плюхнулись
вы.
Тут-то я и сказал про себя, а вышло вслух:
-- Здравствуй, жопа, Новый Год!
Это относилось даже не столько к вам, сколько ко мне самому.
Но теперь я не жалею, что так вышло. Что бы я с этой женшиной делал,
имея ее рядом четырнадцать часов и все это время абсолютно недосягаемую?
Одно расстройство. А в вашем лице я нашел прекрасного собеседника, который
вдобавок и умеет слушать. Что еще нужно еврею для полного счастья?
Пожалуй, одно. Чтобы наш самолет, не дай Бог, не упал в океан, где мы
бы с вами долго мучились в ледяной воде, пока нас бы не пожалели и не съели
акулы. Но это бывает по статистике только в одном полете из ста, и у нас с
вами есть девяносто девять шансов благополучно приземлиться в Москве.
Лучше перейдем к более веселым темам, и пока вон та
куколка-стюардессочка, с таким милым русским личиком, разносит ужин, я успею
вам рассказать историю, которая произошла со мной тоже в самолете, и где мой
метод прожигать взглядом женщину имел успех.
Это было в Америке, с год назад. Я еще был там зеленым и не совсем
устроенным. Только-только из Израиля выкарабкался и искал, как мне
зацепиться за эту страну.
В Нью-Йорке я работы подходящей не нашел, и один местный еврей, из
филантропов, посоветовал мне слетать в город Вилминггон, штат Северная
Каролина. Там его приятель держит салон красоты, и для такого мастера, как
я, у него большого сиониста, место всегда найдется. Он даже позвонил своему
приятелю в Вилмингтон, и тот даже прислал билет на самолет. Правда, в один
конец. Обратный я покупал за свой счет, потому что сионист из Вилмингтона
посчитал меня за фраера и предложил мне плату -- одну треть того, что он
дает даже неграм. При этом он сказал, чуть ли не со слезой, что он всей
душой с русским еврейством, и мы с ним -- братья. Я ему сказал, что таких
братьев я видал в гробу в белых тапочках, наскреб последние доллары на билет
и укатил в Нью-Йорк -- город желтого дьявола, как обозвал его великий
пролетарский писатель Максим Горький.
Но не об этом речь. Я не жалею, что так неудачно слетал в город
Вилмингтон, штат Северная Каролина. Кроме того, удачно я слетал или неудачно
зависит, с какой стороны на это посмотреть. Должен вам признаться, что я
таки очень удачно слетал и затраченные на обратный билет деньги не могу
записать себе в убыток.
Еще в Нью-Йорке, в аэропорту Ла Гардия, я заметил ее. Вернее, волосы.
Черные как смоль. С синеватым отливом. Натуральными волнами лежат на плечах
и спине. И обрамляют эти волосы дивное личико волшебной восточной красоты. С
чуть раскосыми глазками. Бровками вразлет. Губками, как роза. Кожа матовая.
Ноздри трепешут, как у породистой лошади.
При этом миниатюрная, крошечная фигурка. Подстать моему росту. И одета
со вкусом, и без претензий.
Одним словом, с ума сойти! И то мало.
Я стал жечь ее взглядом и внушать на расстоянии. Хотя, скажу
откровенно, особой надежды не питал. Слишком хороша для меня.
Пассажиров в самолете было немного, неполный комплект, и свободных мест
-- сколько хочешь. Сел я у окна, имея рядом свободное место, у прохода, и
уставился на нее в упор, пока она продвигалась в глубь самолета с изящным
чемоданчиком в руке. Смотрю на нее и внушаю. Мысленно. "Сядь со мною рядом,
рассказать мне надо..."
Вы думаете, я хвастаюсь? Клянусь вам, это правда.
Она остановилась возле меня, вскинула свои реснички, и я кивнул ей,
взял из рук чемоданчик и помог положить в багажную сетку.
Она сняла пальто, села, достала журнал и уткнулась в него, словно меня
на свете не существует. Я понял, дело плохо. Лету часа полтора, она едва
успеет дочитать журнал. Надо принимать меры. Сесть со мною рядом -- это я
мог внушить. Но влюбить в себя -- моего внушения не хватало.
И тут меня выручила газета. Еще когда я был в Израиле, и весь мир, а в
особенности, американцы, еще не потеряли интереса к "мужественным советским
евреям", меня сфотографировал корреспондент, и мой портрет появился в
американской газете. Не потому, что я в действительности герой, а потому,
что им нужен был еврей из Москвы, а не из Черновиц, и единственным москвичом
среди черновицких и кишиневских евреев оказался я.
Портрет вышел что надо, а текст вокруг него расписали такой, что
неловко было людям в глаза глядеть. Национальный герой... лидер...
крупнейший... У американцев, если уж они берутся вас похвалить, так вы
непременно и лидер, и крупнейший, и самый, самый. Так у них принято. Я это
потом узнал.
Один номер той газеты я приберег и в нужных случаях, скромно потупясь,
показывал, что не раз сослужило мне хорошую службу.
Газета как всегда лежала у меня в портфеле, и я достал ее, развернул
портретом поближе к соседке и даже краем наехал на ее журнал. От моей
невежливости она нахмурила бровки и нечаянно глянула на портет. Потом
подняла глаза на меня и снова на портрет. Клюнула!
И тогда я увидел, как возникает на этом волшебном личике интерес к моей
особе. Она вежливо попросила газету: нельзя ли посмотреть? Я тоже вежливо,
без суеты, протянул газету. Она впилась, а я, зная, как там расписан, затаил
дыхание, ожидая результата. Ждать пришлось не долго. Она снова подняла глаза
-- в них светился восторг. Еще бы! Она сидит рядом с героем борьбы за выезд
советских евреев в Израиль, мужественным человеком.
Мой английский оставляет желать лучшего, но и ее английский не далеко
ушел. Видать. тоже недавно в Америке. Иммигранточка. Стали болтать через
пень-колоду. Я -- грудь колесом, пускаю пыль в глаза. Она -- ах да ах, не
может успокоиться, с каким, мол, человеком познакомилась.
Чую, дело на мази. Остается только не поскользнуться на апельсиновой
корке. Что меня настораживало, так это плутоватый огонек в ее прекрасных
глазках, когда она поглядывала на меня. Будто разыграть собиралась.
Наахавшись и наохавшись, она сказала мне, играя, как бес, глазами:
-- Я очень рада познакомиться с героем Израиля, но думаю, вы не очень
обрадуетесь, когда узнаете, кто я. Ну, угадайте.
Я почувствовал подвох и окончательно растерял свой скудный запас
английских слов. Вместо вразумительного ответа в башку лезли фразы из
учебника английского языка, вроде: мистер и миссис Кларидж пошли в магазин
делать покупки...
-- Не напрягайтесь, -- рассмеялась она, -- все равно не угадаете. Я --
арабка. И родилась на той же земле, куда вы теперь героически добрались из
Москвы. Мы с вами оба, вроде, земляки. Только меня оттуда попросили, а вас
-- наоборот.
И смеется на все свои прекрасные тридцать два зуба. а я чувствую --
мороз по спине ползет и брюки скоро отклеивать придется. Ничего себе, влип.
Кого я приблизил к себе методом внушения? Арабскую террористку. Возможно, в
чемоданчике, который я помог уложить в багажную сетку, мина с часовым
механизмом? Я даже напряг слух, стараясь услышать тиканье.
Как бы угадав мои мысли, очаровательная террористка продолжала изводить
меня:
-- Два моих брата -- бойцы "Народного фронта освобождения Палестины". Я
тоже чуть не увлеклась этой романтикой, даже собиралась захватить
израильский самолет, но...
-- Что "но"? -- спросил я пересохшими губами.
-- Но, -- рассмеялась она, -- раздумала. Вспомнила, что я -- женщина,
что молодость быстро пройдет, послала к черту моих братьев и эмигрировала из
Ливана сюда. У меня -- американский паспорт.
Я перевел дух.
-- Но это, право, очень занятно, -- продолжала она, -- что мы
познакомились с вами. И если бы у нас завязался роман, то мы были бы
современные Ромео и Джульетта из враждующих домов Монтекки и Капулетти.
Начитанная, должен сказать, была эта канашка из "Народного фронта
освобождения Палестины". Я делаю вид, будто мне не впервой попадать в
подобный переплет.
-- Так за чем остановка? -- как можно беспечней спрашиваю я. -- Что
может помешать нашему роману?
-- Если вы не возражаете, -- отвечает, -- то я -- за. Поверьте мне,
после этого случая я переменил свой взгляд на арабов. Вернее, на арабок.
Послушайте, что было дальше.
Мы прилетели в Вилмингтон поздно вечером и поехали вместе в гостиницу
"Хилтон". Там в каждом городе есть гостиницы под этим названием. Приезжаем.
Она заказывает комнату на двоих и в карточке для приезжающих пишет, что-мы
-- супруги, мистер и миссис Палестайн, что по-русски означает "Палестина".
Вот бестия! Я чуть не начал икать.
А что было в постели -- это ни пером описать, ни в сказке сказать.
Тысяча и одна ночь! Шахерезада!
Через каких-нибудь пару часов я был уже пустой и звонкий, меня можно
было надувать, как шарик, и я бы взлетел, потому что стал легче воздуха.
Я ей потом сказал:
-- С таким темпераментом вы испепелите Израиль в два счета.
А она мне в ответ отвалила комплимент, лестный для всего еврейского
народа:
-- Если все евреи такие мужчины, как ты, я готова признать право
Израиля на существование.
Это она сказала мне, который позорно сбежал с исторической родины в
Америку. Но ведь она этого не знала. Так же, как и я не знал многого из ее,
полагаю, не совсем монашеской жизни.
Уснул я как убитый, а проснулся в холодном поту.
В той комнате, где я ночевал, было окно во всю стену, и, открыв глаза,
я увидел, как в кино, серый силуэт крейсера "Аврора". Исторический крейсер
"Аврора" стоит на Неве в городе Ленинграде -- колыбели революции.
"Значит, я в СССР, -- заныло у меня в копчике, -- меня усыпили и тайком
переправили в Ленинград..." (Почему в Ленинград, а не в Москву? -- об этом я
даже не успел подумать.) "И прелестная арабка -- не террористка, а агент
КГБ! Сейчас пойдут допросы с пристрастием... и все из-за этого паршивого
портрета в американской газете, где меня расписали черт знает кем".
Я лежал холодный, не смея шевельнуться и, как кролик с удава, не сводил
глаз с серой "Авроры" за окном.
Одно меня удивляло, что подо мной не тюремная койка, а мягкая кровать.
А также то, что окно почему-то без железной решетки. Больше того, у окна --
дорогой торшер и кресло.
В широкой кровати я лежал один, но вторая подушка была примята, и на
ней чернел длинный женский волос. Ее волос. Прелестной террористки.
И был я не в Ленинграде, а в Америке. В городе Вилмингтон, штат
Северная Каролина. Крейсер за окном стоял тоже на реке, но не на Неве. Это
был тоже исторический крейсер, но из американской Истории, и как две капли
похожий на нашу "Аврору". Его тоже под музей пустили.
Скажу вам откровенно, это большое чудо, что я не стал тогда импотентом.
Но заикался я довольно продолжительное время, правда, окружающие такой
дефект объясняли слабым знанием английского языка.
Кстати, обратите внимание, блондинка-то поглядывает в нашу сторону.
Значит, мое внушение на расстоянии не прошло бесследно, и она что-то
чувствует. Кто знает, что мсгло бы получиться, если бы не вы, а она села
рядом со мной?
Эфраим Севела. Остановите самолет -- я слезу!
---------------------------------------------------------------
© Copyright 1977 Эфраим Севела
Изд: Gesamtherstellung: F. Zeuner Buch- und Offsetdruck,
Peter-Mullerstr. 43, 8000 Munchen 50,
Printed in West Germany
OCR: Олег Волков
---------------------------------------------------------------
Красивая, 23 года, тугоухая,
говорит немножко на русском,
грузинском и иврите ХОЧЕТ
познакомиться с подходящим молодым
человеком -- тугоухим или
глухонемым с целью замужества.
Из объявлений в израильской
газете на русском языке "Наша
страна".
Международный аэропорт им.
Дж. Ф. Кеннеди в Нью-йорке.
Борт самолета ТУ-144
авиакомпании "Аэрофлот".
Температура воздуха
за бортом +28 С.
-- Здравствуй, жопа, Новый Год!
О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это вслух. Я только подумал
так. Внутренний голос, как говорят киношники.
Но слово -- не воробей, вылетело -- не поймаешь. Поэтому еще раз прошу
прощения, не сердитесь, не будем портить себе нервы. Так уж получилось, что
рядом со мной сели вы, а не вон та блондинка. Я держал это место для нее --
думал, сядет. А сели вы...
Значит, мы с вами -- соседи. И лететь нам вместе в этом прекрасном
самолете отечественного производства четырнадцать часов от города Нью-Йорка
до столицы нашей родины Москвы. Поэтому не будем ссориться с самого начала,
а лучше скоротаем время в интересной беседе и, возможно, если повезет,
услышим что-нибудь новенького. Как сказал Сема Кац -- пожарный при одном
московском театре.
Вы не знаете эту историю? Слушайте, вы много потеряли. Эта история с
бородой, ей было сто лет еще до того, как я очертя голову покинул Москву,
чтобы жить на исторической родине.
Вы не знаете, что такое историческая родина? Сразу видно, не еврей.
Любой советский еврей -- сионист или антисионист, коммунист и беспартийный,
идеалист и спекулянт, круглый дурак и почти гений -- уж что-что, а что такое
историческая родина, ответит вам даже в самом глубоком сне.
Но вы русский человек, это видно с первого взгляда, и зачем вам ломать
голову: что такое историческая родина -- когда родина у вас была. есть и
будет, и это понятно и естественно, как то, что мы с вами дышим. А у евреев
с этим вопросом не все гладко, и поэтому тоже понятно, почему им не нужно
объяснять, что такое историческая родина.
Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Вернемся к нашему пожарному
Семе Кацу. Из московского театра. А насчет исторической родины мы успеем еще
обменяться мнениями. Впереди долгий путь и много времени. Я, как видите,
поговорить люблю, а вы, как я вижу, умеете слушать. Неплохая пара -- гусь да
гагара. Это и называется приятным обществом.
Все! Хватит трепаться, переходим к делу. Евреи, как мы с вами знаем,
народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт
Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея
мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не
найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый
Михаил Ломоносов.
Пожарный Сема Кац, который каждый божий вечер, когда шел спектакль в
театре, дежурил за кулисами на случай пожара, чтоб без паники и желательно
без смертельных ожогов эвакуировать публику из зала, если пожар все же
случится, относился ко второй категории евреев, то есть, не к тем, что дали
миру Альберта Эйнштейна и основоположника научного марксизма. Сема Кац, хоть
удачно выдал замуж двух дочерей и был дедушкой, отличался дремучим
невежеством и наивностью новорожденного. Он знал только свою профессию и был
без ума от театра. До того без ума, что мог в сотый раз с интересом смотреть
одну и ту же пьесу. И поскольку стоило закрыться занавесу, как все начисто
улетучивалось из его головы, то назавтра он с неменьшим увлечением слушал
тот же текст, стоя за кулисами и разинув рот от удовольствия.
Так вот как-то раз этот самый Сема Кац потряс всю театральную Москву.
Актеры, зная преданность пожарного Каца театру, великодушно позволяли ему
сопровождать их после спектакля до метро и молча слушать их треп. Сема Кац
один единственный раз вмешался в разговор, и этого ему было достаточно,
чтобы прославиться на всю Москву. И ее окрестности.
Актеры спорили о чем-то, шагая в сопровождении пожарного к метро, и
кто-то, доказывая свою правоту, сказал:
-- Это так же реально, как и то, что земля круглая.
-- Земля круглая? -- не выдержал пожарный Кац и рассмеялся этому, как
удачной шутке.
Оторопевшие актеры, которые никак не ожидали обнаружить в середине
двадцатого столетия в столице державы, запускающей спутники, такого мамонта,
стали популярно разъяснять ему все, что знает крошка-школьник. Сема Кац
слушал, как волшебную сказку, и у входа в метро, когда прощался с актерами,
сказал растроганно:
-- Вот почему я люблю с вами гулять -- от вас всегда узнаешь что-нибудь
новенького.
Прелестно! Я очень доволен, что удалось вас рассмешить. Значит,
конфликт исчерпан, и мы можем познакомиться поближе.
Разрешите представиться. Рубинчик. Аркадий Соломонович. Сын, как
говорится, собственных родителей. По профессии -- увы! -- парикмахер.
Дамский и мужской. Не смотрите на меня так. Да, да. Парикмахер. И если вам
показалось, что я кто-нибудь другой, то не вы первый ошибаетесь. Я --
парикмахер высшего разряда. Гостиницу "Интурист" в Москве знаете? Там
работал ваш покорный слуга и обслуживал исключительно высший свет --
дипломатов, туристов, а главное, московский мир искусств. Все головы этого
мира обработаны мною, и по закону сообщающихся сосудов кое-что оттуда
перешло ко мне. Неплохо?
Каждый писатель из моих постоянных клиентов считал своим долгом
обязательно дарить мне экземпляр только что вышедшей книги с соответствующей
надписью и потом, приходя стричься или бриться, считал неменьшим долгом
спрашивать, как мне понравилось прочитанное, а чтобы я не увиливал,
выпытывал конкретно, по главам.
Воленс-неволенс, мне приходилось всю эту муру не только читать, но и
запоминать, чтобы не лишиться постоянных клиентов, которые как инженеры
человеческих душ знают, что мастер тоже человек и ему надо оставлять на чай,
иначе он протянет ноги, и некому будет работать над их талантливыми
головами. Я не имею в виду идеологическую обработку. Это делали в другом
месте.
Весь прочитанный мною винегрет и услышанные разговоры деятелей искусств
-- ведь уши не заткнешь -- застряли в моей голове, и когда я открываю рот и
начинаю говорить, многие ошибаются н принимают меня за писателя. Средней
руки. Боже упаси! У меня есть моя профессия, и она меня пока еще кормит. И
не место красит человека, а совсем наоборот: человек -- место. Поэтому я, в
отличие от некоторых, никогда не скрываю, кто я в действительности такой.
Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру
сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак.
Правда, меня утешает одно обстоятельство. То, что я не одинок в своем
идиотизме. Добрая сотня тысяч советских евреев проделала то же самое, и
скажу вам откровенно, с неменьшим успехом. И ходят теперь все лысыми. Потому
что потом рвали волосы у себя на голове.
Но об этом после. Времени у нас -- уйма.
Посмотрите, пожалуйста, вон та блондинка, на три ряда впереди, не на
нас с вами оглядывается? Да. Роскошные волосы. Скажу по совести, на каждую
женщину, которая чего-нибудь стоит, я сперва кладу профессиональный взгляд.
Волосы, косметика. У стоящей женщины это дело всегда на высоте.
Вот и на эту блондинку я еще в аэропорту Кеннеди обратил внимание из-за
ее шикарных волос. Потом оказалось, что и фигурка не подкачала. И нос на
месте. И глаза без бельма. Что еще мужчине надо?
Тогда я стал смотреть на нее в упор -- это у меня такой метод еще с
юности, когда я жил в городе Мелитополе, -- и стал мысленно ей внушать:
"Ты сядешь в самолете рядом со мной... сядешь рядом со мной... это твой
шанс... не проходи мимо своего счастья..."
Я сверлил взглядом ее затылок, пока у нас принимали ручную кладь,
потом, когда мы спешили по длинному туннелю к самолету, и в самом самолете.
Я повторял мое заклинание до тех пор, пока... рядом со мной не плюхнулись
вы.
Тут-то я и сказал про себя, а вышло вслух:
-- Здравствуй, жопа, Новый Год!
Это относилось даже не столько к вам, сколько ко мне самому.
Но теперь я не жалею, что так вышло. Что бы я с этой женшиной делал,
имея ее рядом четырнадцать часов и все это время абсолютно недосягаемую?
Одно расстройство. А в вашем лице я нашел прекрасного собеседника, который
вдобавок и умеет слушать. Что еще нужно еврею для полного счастья?
Пожалуй, одно. Чтобы наш самолет, не дай Бог, не упал в океан, где мы
бы с вами долго мучились в ледяной воде, пока нас бы не пожалели и не съели
акулы. Но это бывает по статистике только в одном полете из ста, и у нас с
вами есть девяносто девять шансов благополучно приземлиться в Москве.
Лучше перейдем к более веселым темам, и пока вон та
куколка-стюардессочка, с таким милым русским личиком, разносит ужин, я успею
вам рассказать историю, которая произошла со мной тоже в самолете, и где мой
метод прожигать взглядом женщину имел успех.
Это было в Америке, с год назад. Я еще был там зеленым и не совсем
устроенным. Только-только из Израиля выкарабкался и искал, как мне
зацепиться за эту страну.
В Нью-Йорке я работы подходящей не нашел, и один местный еврей, из
филантропов, посоветовал мне слетать в город Вилминггон, штат Северная
Каролина. Там его приятель держит салон красоты, и для такого мастера, как
я, у него большого сиониста, место всегда найдется. Он даже позвонил своему
приятелю в Вилмингтон, и тот даже прислал билет на самолет. Правда, в один
конец. Обратный я покупал за свой счет, потому что сионист из Вилмингтона
посчитал меня за фраера и предложил мне плату -- одну треть того, что он
дает даже неграм. При этом он сказал, чуть ли не со слезой, что он всей
душой с русским еврейством, и мы с ним -- братья. Я ему сказал, что таких
братьев я видал в гробу в белых тапочках, наскреб последние доллары на билет
и укатил в Нью-Йорк -- город желтого дьявола, как обозвал его великий
пролетарский писатель Максим Горький.
Но не об этом речь. Я не жалею, что так неудачно слетал в город
Вилмингтон, штат Северная Каролина. Кроме того, удачно я слетал или неудачно
зависит, с какой стороны на это посмотреть. Должен вам признаться, что я
таки очень удачно слетал и затраченные на обратный билет деньги не могу
записать себе в убыток.
Еще в Нью-Йорке, в аэропорту Ла Гардия, я заметил ее. Вернее, волосы.
Черные как смоль. С синеватым отливом. Натуральными волнами лежат на плечах
и спине. И обрамляют эти волосы дивное личико волшебной восточной красоты. С
чуть раскосыми глазками. Бровками вразлет. Губками, как роза. Кожа матовая.
Ноздри трепешут, как у породистой лошади.
При этом миниатюрная, крошечная фигурка. Подстать моему росту. И одета
со вкусом, и без претензий.
Одним словом, с ума сойти! И то мало.
Я стал жечь ее взглядом и внушать на расстоянии. Хотя, скажу
откровенно, особой надежды не питал. Слишком хороша для меня.
Пассажиров в самолете было немного, неполный комплект, и свободных мест
-- сколько хочешь. Сел я у окна, имея рядом свободное место, у прохода, и
уставился на нее в упор, пока она продвигалась в глубь самолета с изящным
чемоданчиком в руке. Смотрю на нее и внушаю. Мысленно. "Сядь со мною рядом,
рассказать мне надо..."
Вы думаете, я хвастаюсь? Клянусь вам, это правда.
Она остановилась возле меня, вскинула свои реснички, и я кивнул ей,
взял из рук чемоданчик и помог положить в багажную сетку.
Она сняла пальто, села, достала журнал и уткнулась в него, словно меня
на свете не существует. Я понял, дело плохо. Лету часа полтора, она едва
успеет дочитать журнал. Надо принимать меры. Сесть со мною рядом -- это я
мог внушить. Но влюбить в себя -- моего внушения не хватало.
И тут меня выручила газета. Еще когда я был в Израиле, и весь мир, а в
особенности, американцы, еще не потеряли интереса к "мужественным советским
евреям", меня сфотографировал корреспондент, и мой портрет появился в
американской газете. Не потому, что я в действительности герой, а потому,
что им нужен был еврей из Москвы, а не из Черновиц, и единственным москвичом
среди черновицких и кишиневских евреев оказался я.
Портрет вышел что надо, а текст вокруг него расписали такой, что
неловко было людям в глаза глядеть. Национальный герой... лидер...
крупнейший... У американцев, если уж они берутся вас похвалить, так вы
непременно и лидер, и крупнейший, и самый, самый. Так у них принято. Я это
потом узнал.
Один номер той газеты я приберег и в нужных случаях, скромно потупясь,
показывал, что не раз сослужило мне хорошую службу.
Газета как всегда лежала у меня в портфеле, и я достал ее, развернул
портретом поближе к соседке и даже краем наехал на ее журнал. От моей
невежливости она нахмурила бровки и нечаянно глянула на портет. Потом
подняла глаза на меня и снова на портрет. Клюнула!
И тогда я увидел, как возникает на этом волшебном личике интерес к моей
особе. Она вежливо попросила газету: нельзя ли посмотреть? Я тоже вежливо,
без суеты, протянул газету. Она впилась, а я, зная, как там расписан, затаил
дыхание, ожидая результата. Ждать пришлось не долго. Она снова подняла глаза
-- в них светился восторг. Еще бы! Она сидит рядом с героем борьбы за выезд
советских евреев в Израиль, мужественным человеком.
Мой английский оставляет желать лучшего, но и ее английский не далеко
ушел. Видать. тоже недавно в Америке. Иммигранточка. Стали болтать через
пень-колоду. Я -- грудь колесом, пускаю пыль в глаза. Она -- ах да ах, не
может успокоиться, с каким, мол, человеком познакомилась.
Чую, дело на мази. Остается только не поскользнуться на апельсиновой
корке. Что меня настораживало, так это плутоватый огонек в ее прекрасных
глазках, когда она поглядывала на меня. Будто разыграть собиралась.
Наахавшись и наохавшись, она сказала мне, играя, как бес, глазами:
-- Я очень рада познакомиться с героем Израиля, но думаю, вы не очень
обрадуетесь, когда узнаете, кто я. Ну, угадайте.
Я почувствовал подвох и окончательно растерял свой скудный запас
английских слов. Вместо вразумительного ответа в башку лезли фразы из
учебника английского языка, вроде: мистер и миссис Кларидж пошли в магазин
делать покупки...
-- Не напрягайтесь, -- рассмеялась она, -- все равно не угадаете. Я --
арабка. И родилась на той же земле, куда вы теперь героически добрались из
Москвы. Мы с вами оба, вроде, земляки. Только меня оттуда попросили, а вас
-- наоборот.
И смеется на все свои прекрасные тридцать два зуба. а я чувствую --
мороз по спине ползет и брюки скоро отклеивать придется. Ничего себе, влип.
Кого я приблизил к себе методом внушения? Арабскую террористку. Возможно, в
чемоданчике, который я помог уложить в багажную сетку, мина с часовым
механизмом? Я даже напряг слух, стараясь услышать тиканье.
Как бы угадав мои мысли, очаровательная террористка продолжала изводить
меня:
-- Два моих брата -- бойцы "Народного фронта освобождения Палестины". Я
тоже чуть не увлеклась этой романтикой, даже собиралась захватить
израильский самолет, но...
-- Что "но"? -- спросил я пересохшими губами.
-- Но, -- рассмеялась она, -- раздумала. Вспомнила, что я -- женщина,
что молодость быстро пройдет, послала к черту моих братьев и эмигрировала из
Ливана сюда. У меня -- американский паспорт.
Я перевел дух.
-- Но это, право, очень занятно, -- продолжала она, -- что мы
познакомились с вами. И если бы у нас завязался роман, то мы были бы
современные Ромео и Джульетта из враждующих домов Монтекки и Капулетти.
Начитанная, должен сказать, была эта канашка из "Народного фронта
освобождения Палестины". Я делаю вид, будто мне не впервой попадать в
подобный переплет.
-- Так за чем остановка? -- как можно беспечней спрашиваю я. -- Что
может помешать нашему роману?
-- Если вы не возражаете, -- отвечает, -- то я -- за. Поверьте мне,
после этого случая я переменил свой взгляд на арабов. Вернее, на арабок.
Послушайте, что было дальше.
Мы прилетели в Вилмингтон поздно вечером и поехали вместе в гостиницу
"Хилтон". Там в каждом городе есть гостиницы под этим названием. Приезжаем.
Она заказывает комнату на двоих и в карточке для приезжающих пишет, что-мы
-- супруги, мистер и миссис Палестайн, что по-русски означает "Палестина".
Вот бестия! Я чуть не начал икать.
А что было в постели -- это ни пером описать, ни в сказке сказать.
Тысяча и одна ночь! Шахерезада!
Через каких-нибудь пару часов я был уже пустой и звонкий, меня можно
было надувать, как шарик, и я бы взлетел, потому что стал легче воздуха.
Я ей потом сказал:
-- С таким темпераментом вы испепелите Израиль в два счета.
А она мне в ответ отвалила комплимент, лестный для всего еврейского
народа:
-- Если все евреи такие мужчины, как ты, я готова признать право
Израиля на существование.
Это она сказала мне, который позорно сбежал с исторической родины в
Америку. Но ведь она этого не знала. Так же, как и я не знал многого из ее,
полагаю, не совсем монашеской жизни.
Уснул я как убитый, а проснулся в холодном поту.
В той комнате, где я ночевал, было окно во всю стену, и, открыв глаза,
я увидел, как в кино, серый силуэт крейсера "Аврора". Исторический крейсер
"Аврора" стоит на Неве в городе Ленинграде -- колыбели революции.
"Значит, я в СССР, -- заныло у меня в копчике, -- меня усыпили и тайком
переправили в Ленинград..." (Почему в Ленинград, а не в Москву? -- об этом я
даже не успел подумать.) "И прелестная арабка -- не террористка, а агент
КГБ! Сейчас пойдут допросы с пристрастием... и все из-за этого паршивого
портрета в американской газете, где меня расписали черт знает кем".
Я лежал холодный, не смея шевельнуться и, как кролик с удава, не сводил
глаз с серой "Авроры" за окном.
Одно меня удивляло, что подо мной не тюремная койка, а мягкая кровать.
А также то, что окно почему-то без железной решетки. Больше того, у окна --
дорогой торшер и кресло.
В широкой кровати я лежал один, но вторая подушка была примята, и на
ней чернел длинный женский волос. Ее волос. Прелестной террористки.
И был я не в Ленинграде, а в Америке. В городе Вилмингтон, штат
Северная Каролина. Крейсер за окном стоял тоже на реке, но не на Неве. Это
был тоже исторический крейсер, но из американской Истории, и как две капли
похожий на нашу "Аврору". Его тоже под музей пустили.
Скажу вам откровенно, это большое чудо, что я не стал тогда импотентом.
Но заикался я довольно продолжительное время, правда, окружающие такой
дефект объясняли слабым знанием английского языка.
Кстати, обратите внимание, блондинка-то поглядывает в нашу сторону.
Значит, мое внушение на расстоянии не прошло бесследно, и она что-то
чувствует. Кто знает, что мсгло бы получиться, если бы не вы, а она села
рядом со мной?

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?

Михаил, прошу - верни "рассказ-памятник" про Рухлю! Поставь его, пожалуйста, в тему "Школа №2". Я не учился у нее, но с таким теплом рассказано о учителях...
Илья.

Михаил-52- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 72

Страна : Город : Нью-Йорк
Город : Нью-Йорк
Район проживания : Качановка (ул. Косогоркая,2) и ул.Ново-Ивановская
Место учёбы, работы. : школа №2, Бердичевский маш. техникум
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 571
Репутация : 334
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Продолжение>
Над районом острова Ньюфаундленд. Высота -- 27 тысяч футов.
Ну, кажется, и нам несут ужин. Вот это я понимаю! По-царски! Ну, как
тут не закричать на весь мир: "Летайте самолетами "Аэрофлота!" Икра! Красная
и черная! Где, в каком еше самолете вам подадут такую роскошь?
Я полетал немало. Разными авиакомпаниями. И "Эл-Ал", и "Пан-Америкен",
и "Эр-Франс", и "Люфтганза"... и "Юнайтед Артистс"... Нет, что я говорю?
Прошу прощения. "Юнайтед Артистс" -- это не авиационная, а кинокомпания,
снимает фильмы. Я уже начинаю заговариваться. Видно, действует запах русской
кухни.
Нигде так не кормят, как в "Аэрофлоте"! У них там все малюсенькими
дозами, все отмерено в миллиграммах, как в аптеке. И безо всякого вкуса.
Будто резину жуешь.
А у нас? В первом классе едят, а во втором голова кругом от запахов.
Какой борш! Какой аромат! Дымится! Клубится!
А девица-то... стюардессочка. Какие стати! Какой взгляд! Пава! Ей-богу,
пава! Как поется в известной песне: посмотрела, как будто рублем подарила.
посмотрела. как будто огнем обожгла.
Что может быть лучше русской женщины?! Заграничные стюардессы тоже,
канашки, неплохи. Но с нашими... никакого сравнения. Там стюардессы как из
одного инкубатора. И улыбка не своя. Положено по службе, вот и скалит зубы.
Без чувства, без луши. Как манекен в витрине.
А наша? Никакой улыбки. Даже бровки хмурит соболиные. Строга, мать.
Знает себе цену. А уж улыбнется, так персонально тебе, и никому другому. От
всей души!
Боже мой, боже! У меня сердце выпрыгнет. Я ведь не железный.
Посмотрите, как она ходит! Как ногу ставит. Как бедром работает... левым...
правым... Уй, глаза бы мои не глядели... можно схватить инфаркт. Естество...
грация... врожденная. Такому не обучишь. Такой надо родиться... а это
возможно только в России.
Ну, слава Богу, отошла. Поехала, мать, за новыми порциями. Теперь хоть
остыну немножко, успокоюсь. Знаете, такая и мертвого подымет.
Уф-уф-уф. Остываем. Берем второе дыхание... Хотите верьте, хотите --
нет, но у меня была такая вот, и раз у нас разговор мужской, то и грех не
поделиться. Тем более. что ни имен, ни фамилий, поговорили -- и забыли, все
репутации в полной сохранности. А кое-что полезное осядет в памяти. И
веселое тоже.
Значит, была у меня стюардессочка, и не простая. как скажем, в нашем
самолете, а из правительственного отряда, что возят по заграницам
руководителей советского государства. Коллективное руководство. Святую
троицу. Ха-ха. Ведь в Кремле как принято? Один летает, а двое других дома
сидят, чтоб власть не отняли.
Вот она и летала стюардессой в этом самолете. То с одним вождем, то с
другим, то с третьим. Там отбор строжайший. Самые красивые и самые
проверенные политически и морально. Непременное условие -- девичья
невинность. После каждого полета -- проверка. Их начальница в полковничьем
звании кладет стюардессу на коечку, ножки повыше и врозь, пальчиком наощупь
-- девственность не нарушена?
Такой уговор был в коллективном руководстве, чтоб никто из троих не мог
попользоваться, злоупотребить своей властью -- все стюардессы невинные
девицы. С комсомольским значком на юной груди.
Тут вы меня, по глазам вижу, поймали на слове. Как же, мол, так,
уважаемый товарищ Рубинчик, заврались вы совсем. Живете с такой стюардессой
из такого отряда, и ее что, не выгнали за потерю невинности? Что-то не
сходятся концы с концами.
Вы абсолютно правы, дорогой. Но прав и я. Дело в том, что я с ней жил,
когда она была уволена из отряда, по случаю замужества. Замужних там не
держат. И все узнал, как говорится, постфактум.
Интересные, скажу я вам, подробности мадридского двора. Но это --
строго между нами. Не каждому посчастливится спать бывшей правительственной
стюардессой, и не каждому повезет лететь рядом с этим счастливчиком. Поэтому
вам -- из первых рук, но дальше -- рот на замок.
Летала моя красавица по всей планете, юная, сексуальная, кровь с
молоком, только тронь -- брызнет. Члены коллективного руководства, -- каждый
из трех вождей советского народа хоть и в преклонном возрасте. но все же
живой, не из бронзы отлит, -- шалеют. глядя на нее, да и на ее подружек.
Но... партийная дисциплина. а гланное -- уговор. Нарушитель сразу
высплывает. Не тюрьмой, полагаю, пахнет, но потерей доверия остальных из
троицы. Раз в таком деле слово не держит, значит, и в более серьезном
политическом акте может заложить коллег, подвести их под монастырь.
Любуются ею в полете, облизываются. По-отечески расспрашивают, нет ли в
чем нужды, не надо ли помочь. КобеЛи в намордниках. Око видит -- зуб неймет.
Один оказался самым находчивым, но имени не скажу. Даже под-пыткой.
Зачем нам позорить свое родное правительство? Никакой нужды. Обойдемся без
имен. А догадаетесь -- на вашей совести.
Значит, один из них, когда ему предоставляют правительственный самолет
для официального визита к какому-нибудь президенту или королеве, на высоте
девять тысяч метров соберет в салоне своих советников для совещания: как,
мол, будем решать судьбу такой-то страны,-- и ее, стюардессу, к себе зовет.
Приучил ее всегда стоять рядом со своим креслом. Спор идет, дым коромыслом:
холодная война, детант, разрядка, посылать оружие, нотой протеста грозить --
а он, главный-то, при всех держит руку у нее под юбкой, гладит дрожащей
рукой по трусикам. Такой вот, греховодник. И уговор соблюдает, и свое
удовольствие имеет. Она же молчит, не хочет места лишиться.
Так и летала. И с теми, кто потише, и с этим приходилось. Возбуждал он
ее жутко, до мигрени доводил своей руководящей дланью. Не выдержала,
уволилась, выскочила замуж.
И как с цепи сорвалась девка. За все годы, что держала себя в узде. У
мужа рога пробились гроздьями, целым букетом. Не человек, а стадо маралов.
Через этого мужа и я к ней в постель попал и в паузах слушал ее истории, как
служила в правительственном авиаотряде и летала в разные страны с нашими
вождями.
Девка -- первый сорт, не поддается описанию. Наша с вами стюардесса
чем-то ее напоминает. Бывало, делаю ей прическу, дома, в роскошной спальне.
Муж в отьезде. Она сидит нагая у зеркала, волосы распустит. Гляну на
мраморные плечи, коснусь шелка волос и -- готов. Приходится опять
раздеваться и нырять в постель. Пока сделаешь ей прическу, полдня ухлопаешь
и еле живой ползешь до метро.
Досталась она в жены скотине, и очень справедливо поступала, награждая
его ветвистыми. Этот муж, я его имени тоже не стану называть, из писателей,
что пишут детективы про героизм чекистов и деньги гребут лопатой. Толстый, с
животом, без зеркала свой член не видит.
Никто из соседей по дому, из писателей, ему руки не подает. Официальный
стукач. Едут писатели за границу, он к группе приставлен следить за
поведением и потом куда следует рапорт писать.
И со мной вел себя по-свински. Другой писатель -- настояший, почти
классик, -- за ручку здоровается, пострижешь его -- обедом угостит,
бутылочку заграничного виски с тобой раздавит. А уж заплатит не по
прейскуранту, а с хорошим гаком. Этот же, чтоб от других писателей не
отстать, тоже по телефону стал меня на дом вызывать. Словом не перекинется,
сидит как сыч в кресле, щурится в зеркало нехорошо, не любит он нашего
брата, а как платить -- требует квитанцию и сдачи до единой копеечки.
Я б ему в харю плюнул, и пусть его черти стригут на том свете. Но
увидал жену...
Тут я взял реванш. Работаю с ней только в его отсутствие. И платила
она, должен вам сказать, не в пример супругу. И за себя, и за него, и еще
лишку. Не жалела его денежек, не обижала мастера.
Я человек не мстительный. У меня мягкое отходчивое сердце. Но вот этой
свинье я на большом расстоянии отвесил плюху. И, кажется, метко. Не мог
простить ему антисемитский взглял маленьких поросячьих глазок. Вспомнил я
этот взгляд в Америке. когда гулял олнажды по Нью-Йорку и в витрине книжного
магазина увилел что-то его очередное детективное... В переволе на
английский. Ах. думаю. гад. всюду тебе дороги открыты. отыграюсь на тебе
твоим же оружием. надо прикончить твою карьеру литературного вертухая. А как
это сделать? Лишить политического доверия.
Взял грех на душу. Пошел на почту и латинскими буквами русскими словами
отправил в Москву по его адресу телеграмму такого содержания:
Над районом острова Ньюфаундленд. Высота -- 27 тысяч футов.
Ну, кажется, и нам несут ужин. Вот это я понимаю! По-царски! Ну, как
тут не закричать на весь мир: "Летайте самолетами "Аэрофлота!" Икра! Красная
и черная! Где, в каком еше самолете вам подадут такую роскошь?
Я полетал немало. Разными авиакомпаниями. И "Эл-Ал", и "Пан-Америкен",
и "Эр-Франс", и "Люфтганза"... и "Юнайтед Артистс"... Нет, что я говорю?
Прошу прощения. "Юнайтед Артистс" -- это не авиационная, а кинокомпания,
снимает фильмы. Я уже начинаю заговариваться. Видно, действует запах русской
кухни.
Нигде так не кормят, как в "Аэрофлоте"! У них там все малюсенькими
дозами, все отмерено в миллиграммах, как в аптеке. И безо всякого вкуса.
Будто резину жуешь.
А у нас? В первом классе едят, а во втором голова кругом от запахов.
Какой борш! Какой аромат! Дымится! Клубится!
А девица-то... стюардессочка. Какие стати! Какой взгляд! Пава! Ей-богу,
пава! Как поется в известной песне: посмотрела, как будто рублем подарила.
посмотрела. как будто огнем обожгла.
Что может быть лучше русской женщины?! Заграничные стюардессы тоже,
канашки, неплохи. Но с нашими... никакого сравнения. Там стюардессы как из
одного инкубатора. И улыбка не своя. Положено по службе, вот и скалит зубы.
Без чувства, без луши. Как манекен в витрине.
А наша? Никакой улыбки. Даже бровки хмурит соболиные. Строга, мать.
Знает себе цену. А уж улыбнется, так персонально тебе, и никому другому. От
всей души!
Боже мой, боже! У меня сердце выпрыгнет. Я ведь не железный.
Посмотрите, как она ходит! Как ногу ставит. Как бедром работает... левым...
правым... Уй, глаза бы мои не глядели... можно схватить инфаркт. Естество...
грация... врожденная. Такому не обучишь. Такой надо родиться... а это
возможно только в России.
Ну, слава Богу, отошла. Поехала, мать, за новыми порциями. Теперь хоть
остыну немножко, успокоюсь. Знаете, такая и мертвого подымет.
Уф-уф-уф. Остываем. Берем второе дыхание... Хотите верьте, хотите --
нет, но у меня была такая вот, и раз у нас разговор мужской, то и грех не
поделиться. Тем более. что ни имен, ни фамилий, поговорили -- и забыли, все
репутации в полной сохранности. А кое-что полезное осядет в памяти. И
веселое тоже.
Значит, была у меня стюардессочка, и не простая. как скажем, в нашем
самолете, а из правительственного отряда, что возят по заграницам
руководителей советского государства. Коллективное руководство. Святую
троицу. Ха-ха. Ведь в Кремле как принято? Один летает, а двое других дома
сидят, чтоб власть не отняли.
Вот она и летала стюардессой в этом самолете. То с одним вождем, то с
другим, то с третьим. Там отбор строжайший. Самые красивые и самые
проверенные политически и морально. Непременное условие -- девичья
невинность. После каждого полета -- проверка. Их начальница в полковничьем
звании кладет стюардессу на коечку, ножки повыше и врозь, пальчиком наощупь
-- девственность не нарушена?
Такой уговор был в коллективном руководстве, чтоб никто из троих не мог
попользоваться, злоупотребить своей властью -- все стюардессы невинные
девицы. С комсомольским значком на юной груди.
Тут вы меня, по глазам вижу, поймали на слове. Как же, мол, так,
уважаемый товарищ Рубинчик, заврались вы совсем. Живете с такой стюардессой
из такого отряда, и ее что, не выгнали за потерю невинности? Что-то не
сходятся концы с концами.
Вы абсолютно правы, дорогой. Но прав и я. Дело в том, что я с ней жил,
когда она была уволена из отряда, по случаю замужества. Замужних там не
держат. И все узнал, как говорится, постфактум.
Интересные, скажу я вам, подробности мадридского двора. Но это --
строго между нами. Не каждому посчастливится спать бывшей правительственной
стюардессой, и не каждому повезет лететь рядом с этим счастливчиком. Поэтому
вам -- из первых рук, но дальше -- рот на замок.
Летала моя красавица по всей планете, юная, сексуальная, кровь с
молоком, только тронь -- брызнет. Члены коллективного руководства, -- каждый
из трех вождей советского народа хоть и в преклонном возрасте. но все же
живой, не из бронзы отлит, -- шалеют. глядя на нее, да и на ее подружек.
Но... партийная дисциплина. а гланное -- уговор. Нарушитель сразу
высплывает. Не тюрьмой, полагаю, пахнет, но потерей доверия остальных из
троицы. Раз в таком деле слово не держит, значит, и в более серьезном
политическом акте может заложить коллег, подвести их под монастырь.
Любуются ею в полете, облизываются. По-отечески расспрашивают, нет ли в
чем нужды, не надо ли помочь. КобеЛи в намордниках. Око видит -- зуб неймет.
Один оказался самым находчивым, но имени не скажу. Даже под-пыткой.
Зачем нам позорить свое родное правительство? Никакой нужды. Обойдемся без
имен. А догадаетесь -- на вашей совести.
Значит, один из них, когда ему предоставляют правительственный самолет
для официального визита к какому-нибудь президенту или королеве, на высоте
девять тысяч метров соберет в салоне своих советников для совещания: как,
мол, будем решать судьбу такой-то страны,-- и ее, стюардессу, к себе зовет.
Приучил ее всегда стоять рядом со своим креслом. Спор идет, дым коромыслом:
холодная война, детант, разрядка, посылать оружие, нотой протеста грозить --
а он, главный-то, при всех держит руку у нее под юбкой, гладит дрожащей
рукой по трусикам. Такой вот, греховодник. И уговор соблюдает, и свое
удовольствие имеет. Она же молчит, не хочет места лишиться.
Так и летала. И с теми, кто потише, и с этим приходилось. Возбуждал он
ее жутко, до мигрени доводил своей руководящей дланью. Не выдержала,
уволилась, выскочила замуж.
И как с цепи сорвалась девка. За все годы, что держала себя в узде. У
мужа рога пробились гроздьями, целым букетом. Не человек, а стадо маралов.
Через этого мужа и я к ней в постель попал и в паузах слушал ее истории, как
служила в правительственном авиаотряде и летала в разные страны с нашими
вождями.
Девка -- первый сорт, не поддается описанию. Наша с вами стюардесса
чем-то ее напоминает. Бывало, делаю ей прическу, дома, в роскошной спальне.
Муж в отьезде. Она сидит нагая у зеркала, волосы распустит. Гляну на
мраморные плечи, коснусь шелка волос и -- готов. Приходится опять
раздеваться и нырять в постель. Пока сделаешь ей прическу, полдня ухлопаешь
и еле живой ползешь до метро.
Досталась она в жены скотине, и очень справедливо поступала, награждая
его ветвистыми. Этот муж, я его имени тоже не стану называть, из писателей,
что пишут детективы про героизм чекистов и деньги гребут лопатой. Толстый, с
животом, без зеркала свой член не видит.
Никто из соседей по дому, из писателей, ему руки не подает. Официальный
стукач. Едут писатели за границу, он к группе приставлен следить за
поведением и потом куда следует рапорт писать.
И со мной вел себя по-свински. Другой писатель -- настояший, почти
классик, -- за ручку здоровается, пострижешь его -- обедом угостит,
бутылочку заграничного виски с тобой раздавит. А уж заплатит не по
прейскуранту, а с хорошим гаком. Этот же, чтоб от других писателей не
отстать, тоже по телефону стал меня на дом вызывать. Словом не перекинется,
сидит как сыч в кресле, щурится в зеркало нехорошо, не любит он нашего
брата, а как платить -- требует квитанцию и сдачи до единой копеечки.
Я б ему в харю плюнул, и пусть его черти стригут на том свете. Но
увидал жену...
Тут я взял реванш. Работаю с ней только в его отсутствие. И платила
она, должен вам сказать, не в пример супругу. И за себя, и за него, и еще
лишку. Не жалела его денежек, не обижала мастера.
Я человек не мстительный. У меня мягкое отходчивое сердце. Но вот этой
свинье я на большом расстоянии отвесил плюху. И, кажется, метко. Не мог
простить ему антисемитский взглял маленьких поросячьих глазок. Вспомнил я
этот взгляд в Америке. когда гулял олнажды по Нью-Йорку и в витрине книжного
магазина увилел что-то его очередное детективное... В переволе на
английский. Ах. думаю. гад. всюду тебе дороги открыты. отыграюсь на тебе
твоим же оружием. надо прикончить твою карьеру литературного вертухая. А как
это сделать? Лишить политического доверия.
Взял грех на душу. Пошел на почту и латинскими буквами русскими словами
отправил в Москву по его адресу телеграмму такого содержания:

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Илья, я убрал рассказ про Рахилю Мироновну потому, что обнаружил его в теме "Наши люди о Бердичеве". Посмотри, пожалуйста там.

Михаил-52- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 72

Страна : Город : Нью-Йорк
Город : Нью-Йорк
Район проживания : Качановка (ул. Косогоркая,2) и ул.Ново-Ивановская
Место учёбы, работы. : школа №2, Бердичевский маш. техникум
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 571
Репутация : 334
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
продолжение>
"ГЛАДИОЛУСЫ ЦВЕТУТ ЗАПОЗДАНИЕМ"
И подпись: Стефан. Почему не Степан? Стефан не совсем русское имя,
больше подозрения.
Почта из заграницы в СССР читается где следует. Что за текст? Какой
подтекст? Чистейшая шифровка. Взять получателя на карандаш, установить
наблюдение.
И я представляю, как он сам на полусогнутых понес в зубах
компрометирующую телеграмму по начальству и стал строчить объяснения. А ему
не верят. Мол, посадить мы тебя не посадим, а из доверия у нас ты вышел.
Больше его ни к одной делегации писателей не приставляли, безвыездно
сидит в Москве, волком воет. В одиночестве. Жена-стюардессочка тю-тю --
поминай как звали...
Мне об этом один писатель рассказал. Туристом был в Америке. Случайно
встретил. Хороший мужик. Из моих бывших клиентов. Я ему сотню долларов
отвалил, у советского туриста -- копейки, чтоб семье подарки привез. Приеду
в Москву -- и он меня не забудет. А к детектившику, той свинье, в гости
обязательно загляну. Может, знает, куда жена ушла, адрес даст, да и мне
удовольствие посмотреть на дело рук своих -- отставного стукача, наказанного
за нехороший взгляд в зеркало, когда мастер работает над его дурной головой.
Что? Курить? Не курю. Ради Бога. О-о! "Тройка"! Отличные сигареты.
Отечественные. Дым? Не мешает. Наоборот, как это у наших классиков? "И дым
отечества нам сладок и приятен".
Над Атлантическим океаном. Высота -- 28500 футов.
Знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Знакомая голова. У меня ведь
жуткая память на головы. Профессиональное. Возможно, вы у меня стриглись?
Захаживали в "Интурист"? Нет?
Ну, что ж, до конца пути, может быть, и вспомню. Лететь нам ой, как
долго, и я, с вашего разрешения, поболтаю. Вы услышите кое-что интересное. О
еврейской судьбе. О еврейском счастье. Об умении евреев устраиваться в этом
мире.
Нам же многие завидуют. Думают, мы самые хитрые. А вы, пожалуйста,
слушайте и мотайте на ус. Если у вас возникнет зависть к нашим удачам,
скажите мне откровено, и я пойму, что летел всю дорогу с идиотом.
Когда все это началось? Как это случилось? Какая бешеная собака меня
укусила в ягодицу, что во мне стали проявляться все признаки болезни. Знаете
какой? Той самой, когда до зуда в ногах, до спазм в желудке хочется
непременно вернуться через две тысячи лет на историческую родину. Мне
захотелось своей, не чужой культуры, и чтоб дети мои непременно учились на
моем родном древнееврейском языке, именуемом иврит. 3амечу в скобках, что
детей у меня нет и быть не может, по уверению врачей, а что до культуры, то
советская средняя школа плюс ускоренный выпуск офицерского пехотного училища
навсегда отбили у меня вкус к плодам просвещения.
Помню, еще осенью семидесятого года я, беды не чуя, успел съездить в
отпуск в Гагру, на черноморское побережье Кавказа. Без жены. На пляжах --
плюнуть некуда. Сплошные куколки. С высшим образованием. Молодые
специалистки. Не знаю, как они зарекомендовали себя в народном хозяйстве
СССР, но в вопросах... ну, сами догадываетесь, что я хочу сказать... они
были специалистки высшего класса.
Ах, море в Гагре, ах, солнце в Гагре!
Кто побывал там, не забудет никогда...
Эту песню поют во всех ресторанах черноморского побережья. Под дымный
чад шашлыков и чебуреков. Под звон цикад. Дурея от запаха магнолий и
олеандров. Млея от тепла круглой коленки в твоей ладони.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма -- так, насколько я помню,
начинается "Коммунистический манифест" Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
По пляжам Черноморья в ту осень прогуливался совсем другой призрак.
Призрак сионизма.
У евреев, обгоравших на пляже, появился нездоровый блеск в глазах. Как
лунатики бродили они с транзисторами, прижатыми к уху, чтоб не подслушали
православные соседи, и блаженно закатывали очи, внимая далекому "Голосу
Израиля". До изнеможения, до хрипа разбирали они по косточкам всю
Шестидневную войну и раздувались от гордости, словно сами первыми с
крошечным автоматом "Узи" плюхнулись в воды Суэцкого канала. Они сравнивали
Черное море со Средиземным, и Черное выглядело помойкой по сравнению с
чистым, как слеза, белоголубым еврейским морем.
Над пляжами Черного моря шелестел сладкий, как грезы, придушенный
шепот: Петах-Тиква, Кирьят-Шмона, Ришон-Лецион, Аддис-Абеба. Нет.
Аддис-Абеба -- это уже из другой оперы. Хватил, как говорится, лишку.
Я, признаться, только посмеивался над всем этим и ни на йоту не
сомневался, что, как и всякое модное увлечение, это умопомешательство
временно, и очень скоро пройдет и забудется, не оставив следа. Если не
считать архивов КГБ.
Евреи не давали мне покоя.
-- Ай-ай-ай, Рубинчик, Рубинчик, -- качали они головами. -- Что вы
прикидываетесь, будто вам все равно? Еврейская кровь в вас еще проснется.
Рано или поздно. Но смотрите, чтоб это было не слишком поздно.
А я их в ответ посылал, знаете, куда? По известному русскому адресу. До
мамы, с которой поступили не очень хорошо.
Почему-то мой жизненный опыт мне подсказывал: Аркадий, будь бдительным.
Даже если еврей лезет к тебе в душу, не спеши с ответом -- каждый советский
человек, если к нему хорошенько присмотреться, может оказаться писателем, из
тех, чье творчество всякий раз начинается со слова "Доношу "...
Я даже покинул раньше срока Кавказ. Но в Москве мне легче не стало:
эпидемия дошла до столицы и стала подряд косить евреев.
Сидит в кресле клиент, рожа -- в мыле, один еврейский нос торчит из
пены, но стоит мне наклониться к нему. и сразу начинает шепотом пускать
мыльные пузыри:
-- Вы слушали, Рубинчик, "Голос Израиля"? Наши совершили рейд в
Иорданию -- пальчики оближешь. Никаких потерь, а пленных -- десять штук.
Я прикидываюсь идиотом:
-- Какие наши? Советские войска?
Из-под простыни мне в нос лезет указательный палец:
-- Рубинчик, вы не такой идиот, каким стараетесь показаться. До сих пор
я считал вас порядочным человеком. Вы, что, хотите быть умнее всех?
Я не хотел быть умнее всех, я не хотел быть глупее всех. Я хотел, чтоб
меня оставили в покое.
У меня был радиоприемник. Японский. "Сони". С диапазоном, каких в СССР
нет, в шестнадцать и тринадцать метров на короткой волне. Туда советские
глушилки не достают, и можно отчетливо слышать любую станцию мира на русском
языке. Не только "Голос Израиля", но и "Свободу", "Би-Би-Си", "Немецкую
волну" и "Голос Америки". Купил я его за жуткие деньги у одного спортсмена,
вернувшегося с Олимпийских игр. И он еще считал, что сделал мне одолжение,
потому что был моим клиентом. Купил для того, чтобы иметь ценную вещь в
доме, а заодно и побаловаться, когда будет охота. Естественно, когда никого
нет рядом и есть гарантия, что на тебя не стукнут.
Так вот. Я отнес этот приемник в комиссионку и загнал его по дешевке,
не торгуясь, лишь бы подальше от греха. Потому что сердце -- не камень, и
когда все вокруг только и шепчутся про Израиль, рука может сама включить
приемник, а ведь ухо ватой не заткнешь.
Я считал себя вполне застрахованным от того, чтобы не попасть впросак и
клюнуть на отравленную наживку, но тут последовал удар с самой неожиданной
стороны.
Вы думаете, международный сионизм подослал ко мне тайных агентов, и они
большими деньгами заманили меня в лоно еврейства? Или свои доморошенные
сионисты стали осаждать меня и так загнали в угол, что мне уже и деваться
было некуда?
Ничего подобного. Евреем, а заодно и ненормальным, потерявшим контроль
над собой, сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский
человек, член КПСС Коля Мухин. Слесарь-водопроводчик нашего ЖЭК'а, пьяница и
дебошир, каких свет не видывал.
По вашим глазам я читаю, что вы уже знаете дальнейшее: сукин сын и
антисемит Коля Мухин жестоко задел мое национальное достоинство, обозвал
жидом, да еше впридачу по уху сьездил, так что я со всех ног помчался в
Израиль.
Ничего подобного. Даже наоборот.
Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был моим самым близким
другом и, бывало, даже под самым высоким градусом сотворит, что угодно, но
никак не обидит меня. Боже упаси! Любому морду расквасит за один косой
взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь.
Что нас сближало? Очень многое. Хотя я шупл и ростом мал, да еше еврей
впридачу, а он славянин, косая сажень в плечах и с характером, более чем
невоздержанным.
Хотите верьте, хотите -- нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно,
нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и
советская жизнь. Со всеми ее фортелями.
Мы с Колей -- ровесники, и учились оба, хоть в разных городах, но в
одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Даже
в одном звании ходили: младший лейтенант, ванька-взводный. И он, и я не
пошли в гору после войны, не кончали институтов, а взяли в руки ремесло,
чтоб иметь кусок хлеба: он стал ржавые трубы чинить и замки в двери
вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии неумственного труда.
Оба получали, благодаря заботам советского правительства о рабочем
классе -- хозяине страны, такое жалованье, что если не жульничать и не
мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево, не для
плана, а для себя, и я стригу и брею тоже налево, в свой карман. С одной
разницей, что я весь барыш волоку домой жене, а он -- загадочная славянская
душа -- все до копейки пропивает.
И еще он отличается кое-чем. Коля -- член КПСС, состоит в славных рядах
коммунистической партии. Членские взносы из него клещами тащат, на собраниях
клеймят как антиобщественный элемент, но из партии не выгоняют во избежание
резкого сокращения рабочей прослойки. Я же -- беспартийный. В войну, когда
меня за волосы волокли в партию -- была в ту пору мода каждому солдату и
офицеру писать перед боем заявление: если погибну, прошу считать
коммунистом, -- я как-то умудрился увернуться. Позже, даже если бы я очень
захотел, это бы мне вряд ли удалось -- мешало еврейское происхождение.
В этом и состояло наше различие, хотя во всем остальном мы были более
чем похожи. Потому-то Коля Мухин во мне души не чаял, и я его любил, как
мог, хоть это совсем не нравилось моей жене.
Чтобы дать вам полное представление о моем друге Коле Мухине, я
изображу одну сценку, и вы согласитесь со мной, что он был действительно
славный парень, краса и гордость нашего старшего брата -- великого русского
народа.
По пьяной лавочке, а часто и натощак, с похмелья, Коля обожал съездить
по уху своей жене Клаве, а при удачном попадании, засветить ей фонарь под
глазом. Делал он это не таясь в своей комнатке, а в общей кухне, всенародно.
Однажды соседи не стерпели, -- уж очень они жалели Клаву, -- и сбегали за
участковым. Милиционер, увидев распростертую на полу кухни Клаву, грозно
подступил к Коле. Соседи во всех дверях и углах замерли от сладкого
предвкушения: ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы.
А Коля не только не струсил. Наоборот. Строгим стал, серьезным. Взял
милиционера под локоток, подвел к газовой плите, поднял крышку над кипящей
кастрюлей.
-- Понюхай, -- говорит, -- чем она меня кормит. Милиционер понюхал, и
его перекосило.
-- За такое, -- говорит, -- убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ.
Вот он какой, мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь
сионизма, и все, что со мной приключилось потом -- отчасти и его заслуга.
У Коли тоже имелся транзисторный приемник. Не японский, конечно. А наш,
советский. "Спидола". Коля -- мастер на все руки -- сам вмонтировал в него
короткие диапазоны в шестнадцать и тринадцать метров и на трезвую голову
обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Делал он это,
в отличие от меня, довольно громко. Так что и соседям за тонкими стенами
было неплохо слышно. Но никто на него не доносил.
Во-первых, потому что знали: это не хулиганство, а политическое
преступление, контрреволюция, за такое могут Колю упечь в Сибирь, и бедная
Клава хоть и почувствует облегчение поначалу, но потом хватится, да будет
поздно. С тоски зачахнет. Жалко женщину. Во-вторых, все знали колин буйный
нрав и его тяжелую руку -- боялись мести.
Когда я продал, подальше от греха, свой транзистор, заграничные
радиоволны не покинули мою комнату, и ядовитая антисоветская пропаганда
продолжала бушевать по всей ее кубатуре. Стоило утихнуть соседским
разговорам и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры,и
только сверчок в коридоре заводил свой концерт, как включалось занудное,
вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих
станций. Это значило, что Коля Мухин включил свою "Спидолу", беря разгон
через глушители, чтоб нащупать и настроиться на чистую, недосягаемую для
помех волну. Потом раздавались мелодично и звонко позывные "Би-Би-Си", и
чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание
обитателям двенадцати комнат:
-- Говорит Лондон.
Или мужской голос:
-- Слушайте передачу радиостанции "Свобода".
Или без никакого еврейского акцента:
-- Говорит Иерусалим. Радиостанция "Голос Израиля".
Никуда не спрячешься. Да ведь и уши, на то они и есть, чтобы слушать. И
мы с женой лежим под одеялом, высунув носы, и слышим биение своих сердец и
голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина.
Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение
израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты
до жути откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком, без цензуры,
переправленных на Запад, с призывом помочь им уехать из СССР в Израиль.
Тогда-то я и услыхал впервые выражение "историческая родина" и, прикинув в
уме, согласился, что это так и есть. Действительно, все евреи, вернее, наши
дальние предки, родом из тех мест на Ближнем Востоке, и это абсолютная
правда, что две тысячи лет мы скитаемся по свету, и нигде нас не любят.
Возразить было трудно. Да и некому. Слушали мы вдвоем с женой, лежа под
одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на
друга, а в некоторых патетических местах просто не дышали.
Самым захватываюшим, до холодка по спине, было то, что люди, писавшие
такие письма, где за каждую строчку, по советской норме, причиталось от трех
до пятнадцати лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот,
приводили их полностью, даже с отчеством и, чтоб их легче было арестовать,
добавляли домашний адрес. Я в такое не мог поверить. Жена моя тоже. Хотя мы
с ней и полсловом не обменивались.
Нарушил молчанку Коля Мухин. Мы с ним сидели както в скверике, глазели
на баб. Так мы обычно с Колей напару любили отдыхать без жен, если, конечно,
не было левой работенки, на стороне, и отводили душу в мужских разговорах.
Коля первым заговорил про эти письма:
-- Я тебе вот что скажу, Аркадий. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая
липа. Пропаганда! Ну, подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он
вырос в Советском Союзе и знает наши порядки, учудит такое? Да еще адрес
добавит. Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Чудаки там, в
Израиле, насочиняют чепухи и дуют в эфир, и думают, мы, глупенькие, так им и
поверим. Нет, братцы. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Это я тебе
говорю как партийный беспартийному. Понял?
И даже рассмеялся от злости.
-- Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан. И даже глубже.
Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим,
отучены раз и навсегда. Тем более, евреи. Ваш брат вообще нос боится
высунуть.
Ну, чем ты от меня отличаешься? Что нос подлиньше да пьешь поменьше? А
в остальном, порода одна -- советская. Чем нас больше пинают, тем слаше
сапог лижем. Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки
для дурачков. Вот пойди проверь любой из адресов, что они назвали, и сразу
обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы и адресов таких в помине нет.
Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Я
заказал себе пива, Коля сто пятьдесят с прицепом. Сто пятьдесят грамм
московской водки и бокал пива. Коля смешивал это и пил мелкими глотками. Как
горячий чай. Без закуски.
Коля и не такое умеет. Однажды, пропив всю получку, он покаялся перед
Клавой и дал ей слово даже в праздники не пить. Клава за ним ходила, глаз не
спускала, да и все соседи тоже стерегли. Однако Коля исхитрился.
Захожу на нашу общую кухню вечером. Коля сидит, как подопытный кролик,
смирный, благостный. хлебает из тарелки. Клава, довольная, вертится у плиты,
даже песенки под нос мурлычет.
Гляжу, Коля крошит в тарелку хлеб и все это уплетает. Соседи
заглядывают на кухню, уважительно кивают ему. Держит человек слово.
Подошел я ближе, не пахнет борщом, хоть убей. Спиртным отдает. Коля на
меня хитро так глаз прищурил, и по глазу вижу: уже косой. Тут и Клава
хватилась -- учуяла.
Оказалось, Коля всех вокруг пальца обвел. Втихаря налил полную тарелку
водки, накрошил туда хлеба и ложкой, как суп, наворачивает. Ни крякнет, ни
дух переведет. Ест нормально, как куриный бульон. Это же какую глотку надо
иметь?
Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде и с тем же
упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый "Голос
Израиля". Наконец, его терпение истощилось:
-- Послушай, Аркадий, -- зашептал он мне, когда мы прогуливались по
безлюдному скверику. -- Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо
слушал. Страсти-мордасти. Подписанты -- все москвичи. Я нарочно один адресок
засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской. Патлах Бенцион Самойлович. Давай
сходим, завалимся в гости, проведаем голубчика. А? Что мы теряем? Зато
убедимся раз и навсегда, что нет такого Патлаха Бенциона по данному адресу.
И дома под этим номером на Первой Мещанской сроду не бывало. А квартиры --
никто слыхом не слыхал. Чего душу напрасно бередить? Сходим -- и я это радио
больше к уху не подпущу.
И пошли мы. Благо, недалеко -- рукой подать. Действительно, зачем нам
нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.
Прем мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для близиру,
потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине.
Вдруг видим... Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть.
На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.
Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.
-- Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона
Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие
бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный
заворот кишок. Не увижу его -- совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все
это не липа, тем более надо выпить. За твой народ, Аркаша. Самый отчаянный.
И великий. Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам
открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с
таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной
принадлежности.
-- Беня, -- слабым голосом позвала она. -- Это за тобой.
В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться
Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:
-- Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передушите!
Нас -- миллионы.
Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую колину
рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.
-- Успокойся, мама, -- обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой,
но лысый, как Ленин. -- Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.
Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и
совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.
-- Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, -- сказал он и
поцеловал старушку в лоб.
Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни
за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Непридуманного.
Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить
инфаркт на месте.
Первым вышел из стобняка Коля Мухин.
-- Патлах! Сука! -- взвыл он от избытка чувств и заключил в свои
медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. -- Дай я тебя расцелую, Бенцион
Самойлович, морда ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я
отныне новую жизнь начинаю!
-- Вы, собственно, кто такие? -- растерялся хозяин.
-- Аркаша, -- догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий,
-- он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что
мы -- евреи.
Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам
хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В
СССР их формалистами зовут. Абстрактными.
Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть
на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь -- лошадь, а трактор -- это
не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.
Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели
несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но
уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост -- не хвост, а
вроде пучка сельдерея. Дальше -- рыбный скелет. Обглоданная рыба.
-- Еврейская сюита, -- с достоинством пояснил художник.
Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника.
Соловьем заливался -- рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес
наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые
дети.
"ГЛАДИОЛУСЫ ЦВЕТУТ ЗАПОЗДАНИЕМ"
И подпись: Стефан. Почему не Степан? Стефан не совсем русское имя,
больше подозрения.
Почта из заграницы в СССР читается где следует. Что за текст? Какой
подтекст? Чистейшая шифровка. Взять получателя на карандаш, установить
наблюдение.
И я представляю, как он сам на полусогнутых понес в зубах
компрометирующую телеграмму по начальству и стал строчить объяснения. А ему
не верят. Мол, посадить мы тебя не посадим, а из доверия у нас ты вышел.
Больше его ни к одной делегации писателей не приставляли, безвыездно
сидит в Москве, волком воет. В одиночестве. Жена-стюардессочка тю-тю --
поминай как звали...
Мне об этом один писатель рассказал. Туристом был в Америке. Случайно
встретил. Хороший мужик. Из моих бывших клиентов. Я ему сотню долларов
отвалил, у советского туриста -- копейки, чтоб семье подарки привез. Приеду
в Москву -- и он меня не забудет. А к детектившику, той свинье, в гости
обязательно загляну. Может, знает, куда жена ушла, адрес даст, да и мне
удовольствие посмотреть на дело рук своих -- отставного стукача, наказанного
за нехороший взгляд в зеркало, когда мастер работает над его дурной головой.
Что? Курить? Не курю. Ради Бога. О-о! "Тройка"! Отличные сигареты.
Отечественные. Дым? Не мешает. Наоборот, как это у наших классиков? "И дым
отечества нам сладок и приятен".
Над Атлантическим океаном. Высота -- 28500 футов.
Знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Знакомая голова. У меня ведь
жуткая память на головы. Профессиональное. Возможно, вы у меня стриглись?
Захаживали в "Интурист"? Нет?
Ну, что ж, до конца пути, может быть, и вспомню. Лететь нам ой, как
долго, и я, с вашего разрешения, поболтаю. Вы услышите кое-что интересное. О
еврейской судьбе. О еврейском счастье. Об умении евреев устраиваться в этом
мире.
Нам же многие завидуют. Думают, мы самые хитрые. А вы, пожалуйста,
слушайте и мотайте на ус. Если у вас возникнет зависть к нашим удачам,
скажите мне откровено, и я пойму, что летел всю дорогу с идиотом.
Когда все это началось? Как это случилось? Какая бешеная собака меня
укусила в ягодицу, что во мне стали проявляться все признаки болезни. Знаете
какой? Той самой, когда до зуда в ногах, до спазм в желудке хочется
непременно вернуться через две тысячи лет на историческую родину. Мне
захотелось своей, не чужой культуры, и чтоб дети мои непременно учились на
моем родном древнееврейском языке, именуемом иврит. 3амечу в скобках, что
детей у меня нет и быть не может, по уверению врачей, а что до культуры, то
советская средняя школа плюс ускоренный выпуск офицерского пехотного училища
навсегда отбили у меня вкус к плодам просвещения.
Помню, еще осенью семидесятого года я, беды не чуя, успел съездить в
отпуск в Гагру, на черноморское побережье Кавказа. Без жены. На пляжах --
плюнуть некуда. Сплошные куколки. С высшим образованием. Молодые
специалистки. Не знаю, как они зарекомендовали себя в народном хозяйстве
СССР, но в вопросах... ну, сами догадываетесь, что я хочу сказать... они
были специалистки высшего класса.
Ах, море в Гагре, ах, солнце в Гагре!
Кто побывал там, не забудет никогда...
Эту песню поют во всех ресторанах черноморского побережья. Под дымный
чад шашлыков и чебуреков. Под звон цикад. Дурея от запаха магнолий и
олеандров. Млея от тепла круглой коленки в твоей ладони.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма -- так, насколько я помню,
начинается "Коммунистический манифест" Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
По пляжам Черноморья в ту осень прогуливался совсем другой призрак.
Призрак сионизма.
У евреев, обгоравших на пляже, появился нездоровый блеск в глазах. Как
лунатики бродили они с транзисторами, прижатыми к уху, чтоб не подслушали
православные соседи, и блаженно закатывали очи, внимая далекому "Голосу
Израиля". До изнеможения, до хрипа разбирали они по косточкам всю
Шестидневную войну и раздувались от гордости, словно сами первыми с
крошечным автоматом "Узи" плюхнулись в воды Суэцкого канала. Они сравнивали
Черное море со Средиземным, и Черное выглядело помойкой по сравнению с
чистым, как слеза, белоголубым еврейским морем.
Над пляжами Черного моря шелестел сладкий, как грезы, придушенный
шепот: Петах-Тиква, Кирьят-Шмона, Ришон-Лецион, Аддис-Абеба. Нет.
Аддис-Абеба -- это уже из другой оперы. Хватил, как говорится, лишку.
Я, признаться, только посмеивался над всем этим и ни на йоту не
сомневался, что, как и всякое модное увлечение, это умопомешательство
временно, и очень скоро пройдет и забудется, не оставив следа. Если не
считать архивов КГБ.
Евреи не давали мне покоя.
-- Ай-ай-ай, Рубинчик, Рубинчик, -- качали они головами. -- Что вы
прикидываетесь, будто вам все равно? Еврейская кровь в вас еще проснется.
Рано или поздно. Но смотрите, чтоб это было не слишком поздно.
А я их в ответ посылал, знаете, куда? По известному русскому адресу. До
мамы, с которой поступили не очень хорошо.
Почему-то мой жизненный опыт мне подсказывал: Аркадий, будь бдительным.
Даже если еврей лезет к тебе в душу, не спеши с ответом -- каждый советский
человек, если к нему хорошенько присмотреться, может оказаться писателем, из
тех, чье творчество всякий раз начинается со слова "Доношу "...
Я даже покинул раньше срока Кавказ. Но в Москве мне легче не стало:
эпидемия дошла до столицы и стала подряд косить евреев.
Сидит в кресле клиент, рожа -- в мыле, один еврейский нос торчит из
пены, но стоит мне наклониться к нему. и сразу начинает шепотом пускать
мыльные пузыри:
-- Вы слушали, Рубинчик, "Голос Израиля"? Наши совершили рейд в
Иорданию -- пальчики оближешь. Никаких потерь, а пленных -- десять штук.
Я прикидываюсь идиотом:
-- Какие наши? Советские войска?
Из-под простыни мне в нос лезет указательный палец:
-- Рубинчик, вы не такой идиот, каким стараетесь показаться. До сих пор
я считал вас порядочным человеком. Вы, что, хотите быть умнее всех?
Я не хотел быть умнее всех, я не хотел быть глупее всех. Я хотел, чтоб
меня оставили в покое.
У меня был радиоприемник. Японский. "Сони". С диапазоном, каких в СССР
нет, в шестнадцать и тринадцать метров на короткой волне. Туда советские
глушилки не достают, и можно отчетливо слышать любую станцию мира на русском
языке. Не только "Голос Израиля", но и "Свободу", "Би-Би-Си", "Немецкую
волну" и "Голос Америки". Купил я его за жуткие деньги у одного спортсмена,
вернувшегося с Олимпийских игр. И он еще считал, что сделал мне одолжение,
потому что был моим клиентом. Купил для того, чтобы иметь ценную вещь в
доме, а заодно и побаловаться, когда будет охота. Естественно, когда никого
нет рядом и есть гарантия, что на тебя не стукнут.
Так вот. Я отнес этот приемник в комиссионку и загнал его по дешевке,
не торгуясь, лишь бы подальше от греха. Потому что сердце -- не камень, и
когда все вокруг только и шепчутся про Израиль, рука может сама включить
приемник, а ведь ухо ватой не заткнешь.
Я считал себя вполне застрахованным от того, чтобы не попасть впросак и
клюнуть на отравленную наживку, но тут последовал удар с самой неожиданной
стороны.
Вы думаете, международный сионизм подослал ко мне тайных агентов, и они
большими деньгами заманили меня в лоно еврейства? Или свои доморошенные
сионисты стали осаждать меня и так загнали в угол, что мне уже и деваться
было некуда?
Ничего подобного. Евреем, а заодно и ненормальным, потерявшим контроль
над собой, сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский
человек, член КПСС Коля Мухин. Слесарь-водопроводчик нашего ЖЭК'а, пьяница и
дебошир, каких свет не видывал.
По вашим глазам я читаю, что вы уже знаете дальнейшее: сукин сын и
антисемит Коля Мухин жестоко задел мое национальное достоинство, обозвал
жидом, да еше впридачу по уху сьездил, так что я со всех ног помчался в
Израиль.
Ничего подобного. Даже наоборот.
Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был моим самым близким
другом и, бывало, даже под самым высоким градусом сотворит, что угодно, но
никак не обидит меня. Боже упаси! Любому морду расквасит за один косой
взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь.
Что нас сближало? Очень многое. Хотя я шупл и ростом мал, да еше еврей
впридачу, а он славянин, косая сажень в плечах и с характером, более чем
невоздержанным.
Хотите верьте, хотите -- нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно,
нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и
советская жизнь. Со всеми ее фортелями.
Мы с Колей -- ровесники, и учились оба, хоть в разных городах, но в
одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Даже
в одном звании ходили: младший лейтенант, ванька-взводный. И он, и я не
пошли в гору после войны, не кончали институтов, а взяли в руки ремесло,
чтоб иметь кусок хлеба: он стал ржавые трубы чинить и замки в двери
вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии неумственного труда.
Оба получали, благодаря заботам советского правительства о рабочем
классе -- хозяине страны, такое жалованье, что если не жульничать и не
мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево, не для
плана, а для себя, и я стригу и брею тоже налево, в свой карман. С одной
разницей, что я весь барыш волоку домой жене, а он -- загадочная славянская
душа -- все до копейки пропивает.
И еще он отличается кое-чем. Коля -- член КПСС, состоит в славных рядах
коммунистической партии. Членские взносы из него клещами тащат, на собраниях
клеймят как антиобщественный элемент, но из партии не выгоняют во избежание
резкого сокращения рабочей прослойки. Я же -- беспартийный. В войну, когда
меня за волосы волокли в партию -- была в ту пору мода каждому солдату и
офицеру писать перед боем заявление: если погибну, прошу считать
коммунистом, -- я как-то умудрился увернуться. Позже, даже если бы я очень
захотел, это бы мне вряд ли удалось -- мешало еврейское происхождение.
В этом и состояло наше различие, хотя во всем остальном мы были более
чем похожи. Потому-то Коля Мухин во мне души не чаял, и я его любил, как
мог, хоть это совсем не нравилось моей жене.
Чтобы дать вам полное представление о моем друге Коле Мухине, я
изображу одну сценку, и вы согласитесь со мной, что он был действительно
славный парень, краса и гордость нашего старшего брата -- великого русского
народа.
По пьяной лавочке, а часто и натощак, с похмелья, Коля обожал съездить
по уху своей жене Клаве, а при удачном попадании, засветить ей фонарь под
глазом. Делал он это не таясь в своей комнатке, а в общей кухне, всенародно.
Однажды соседи не стерпели, -- уж очень они жалели Клаву, -- и сбегали за
участковым. Милиционер, увидев распростертую на полу кухни Клаву, грозно
подступил к Коле. Соседи во всех дверях и углах замерли от сладкого
предвкушения: ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы.
А Коля не только не струсил. Наоборот. Строгим стал, серьезным. Взял
милиционера под локоток, подвел к газовой плите, поднял крышку над кипящей
кастрюлей.
-- Понюхай, -- говорит, -- чем она меня кормит. Милиционер понюхал, и
его перекосило.
-- За такое, -- говорит, -- убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ.
Вот он какой, мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь
сионизма, и все, что со мной приключилось потом -- отчасти и его заслуга.
У Коли тоже имелся транзисторный приемник. Не японский, конечно. А наш,
советский. "Спидола". Коля -- мастер на все руки -- сам вмонтировал в него
короткие диапазоны в шестнадцать и тринадцать метров и на трезвую голову
обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Делал он это,
в отличие от меня, довольно громко. Так что и соседям за тонкими стенами
было неплохо слышно. Но никто на него не доносил.
Во-первых, потому что знали: это не хулиганство, а политическое
преступление, контрреволюция, за такое могут Колю упечь в Сибирь, и бедная
Клава хоть и почувствует облегчение поначалу, но потом хватится, да будет
поздно. С тоски зачахнет. Жалко женщину. Во-вторых, все знали колин буйный
нрав и его тяжелую руку -- боялись мести.
Когда я продал, подальше от греха, свой транзистор, заграничные
радиоволны не покинули мою комнату, и ядовитая антисоветская пропаганда
продолжала бушевать по всей ее кубатуре. Стоило утихнуть соседским
разговорам и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры,и
только сверчок в коридоре заводил свой концерт, как включалось занудное,
вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих
станций. Это значило, что Коля Мухин включил свою "Спидолу", беря разгон
через глушители, чтоб нащупать и настроиться на чистую, недосягаемую для
помех волну. Потом раздавались мелодично и звонко позывные "Би-Би-Си", и
чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание
обитателям двенадцати комнат:
-- Говорит Лондон.
Или мужской голос:
-- Слушайте передачу радиостанции "Свобода".
Или без никакого еврейского акцента:
-- Говорит Иерусалим. Радиостанция "Голос Израиля".
Никуда не спрячешься. Да ведь и уши, на то они и есть, чтобы слушать. И
мы с женой лежим под одеялом, высунув носы, и слышим биение своих сердец и
голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина.
Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение
израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты
до жути откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком, без цензуры,
переправленных на Запад, с призывом помочь им уехать из СССР в Израиль.
Тогда-то я и услыхал впервые выражение "историческая родина" и, прикинув в
уме, согласился, что это так и есть. Действительно, все евреи, вернее, наши
дальние предки, родом из тех мест на Ближнем Востоке, и это абсолютная
правда, что две тысячи лет мы скитаемся по свету, и нигде нас не любят.
Возразить было трудно. Да и некому. Слушали мы вдвоем с женой, лежа под
одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на
друга, а в некоторых патетических местах просто не дышали.
Самым захватываюшим, до холодка по спине, было то, что люди, писавшие
такие письма, где за каждую строчку, по советской норме, причиталось от трех
до пятнадцати лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот,
приводили их полностью, даже с отчеством и, чтоб их легче было арестовать,
добавляли домашний адрес. Я в такое не мог поверить. Жена моя тоже. Хотя мы
с ней и полсловом не обменивались.
Нарушил молчанку Коля Мухин. Мы с ним сидели както в скверике, глазели
на баб. Так мы обычно с Колей напару любили отдыхать без жен, если, конечно,
не было левой работенки, на стороне, и отводили душу в мужских разговорах.
Коля первым заговорил про эти письма:
-- Я тебе вот что скажу, Аркадий. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая
липа. Пропаганда! Ну, подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он
вырос в Советском Союзе и знает наши порядки, учудит такое? Да еще адрес
добавит. Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Чудаки там, в
Израиле, насочиняют чепухи и дуют в эфир, и думают, мы, глупенькие, так им и
поверим. Нет, братцы. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Это я тебе
говорю как партийный беспартийному. Понял?
И даже рассмеялся от злости.
-- Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан. И даже глубже.
Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим,
отучены раз и навсегда. Тем более, евреи. Ваш брат вообще нос боится
высунуть.
Ну, чем ты от меня отличаешься? Что нос подлиньше да пьешь поменьше? А
в остальном, порода одна -- советская. Чем нас больше пинают, тем слаше
сапог лижем. Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки
для дурачков. Вот пойди проверь любой из адресов, что они назвали, и сразу
обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы и адресов таких в помине нет.
Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Я
заказал себе пива, Коля сто пятьдесят с прицепом. Сто пятьдесят грамм
московской водки и бокал пива. Коля смешивал это и пил мелкими глотками. Как
горячий чай. Без закуски.
Коля и не такое умеет. Однажды, пропив всю получку, он покаялся перед
Клавой и дал ей слово даже в праздники не пить. Клава за ним ходила, глаз не
спускала, да и все соседи тоже стерегли. Однако Коля исхитрился.
Захожу на нашу общую кухню вечером. Коля сидит, как подопытный кролик,
смирный, благостный. хлебает из тарелки. Клава, довольная, вертится у плиты,
даже песенки под нос мурлычет.
Гляжу, Коля крошит в тарелку хлеб и все это уплетает. Соседи
заглядывают на кухню, уважительно кивают ему. Держит человек слово.
Подошел я ближе, не пахнет борщом, хоть убей. Спиртным отдает. Коля на
меня хитро так глаз прищурил, и по глазу вижу: уже косой. Тут и Клава
хватилась -- учуяла.
Оказалось, Коля всех вокруг пальца обвел. Втихаря налил полную тарелку
водки, накрошил туда хлеба и ложкой, как суп, наворачивает. Ни крякнет, ни
дух переведет. Ест нормально, как куриный бульон. Это же какую глотку надо
иметь?
Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде и с тем же
упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый "Голос
Израиля". Наконец, его терпение истощилось:
-- Послушай, Аркадий, -- зашептал он мне, когда мы прогуливались по
безлюдному скверику. -- Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо
слушал. Страсти-мордасти. Подписанты -- все москвичи. Я нарочно один адресок
засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской. Патлах Бенцион Самойлович. Давай
сходим, завалимся в гости, проведаем голубчика. А? Что мы теряем? Зато
убедимся раз и навсегда, что нет такого Патлаха Бенциона по данному адресу.
И дома под этим номером на Первой Мещанской сроду не бывало. А квартиры --
никто слыхом не слыхал. Чего душу напрасно бередить? Сходим -- и я это радио
больше к уху не подпущу.
И пошли мы. Благо, недалеко -- рукой подать. Действительно, зачем нам
нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.
Прем мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для близиру,
потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине.
Вдруг видим... Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть.
На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.
Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.
-- Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона
Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие
бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный
заворот кишок. Не увижу его -- совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все
это не липа, тем более надо выпить. За твой народ, Аркаша. Самый отчаянный.
И великий. Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам
открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с
таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной
принадлежности.
-- Беня, -- слабым голосом позвала она. -- Это за тобой.
В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться
Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:
-- Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передушите!
Нас -- миллионы.
Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую колину
рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.
-- Успокойся, мама, -- обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой,
но лысый, как Ленин. -- Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.
Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и
совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.
-- Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, -- сказал он и
поцеловал старушку в лоб.
Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни
за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Непридуманного.
Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить
инфаркт на месте.
Первым вышел из стобняка Коля Мухин.
-- Патлах! Сука! -- взвыл он от избытка чувств и заключил в свои
медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. -- Дай я тебя расцелую, Бенцион
Самойлович, морда ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я
отныне новую жизнь начинаю!
-- Вы, собственно, кто такие? -- растерялся хозяин.
-- Аркаша, -- догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий,
-- он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что
мы -- евреи.
Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам
хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В
СССР их формалистами зовут. Абстрактными.
Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть
на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь -- лошадь, а трактор -- это
не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.
Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели
несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но
уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост -- не хвост, а
вроде пучка сельдерея. Дальше -- рыбный скелет. Обглоданная рыба.
-- Еврейская сюита, -- с достоинством пояснил художник.
Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника.
Соловьем заливался -- рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес
наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые
дети.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Штурман - гинеколог.
Фил Донахью: В Америке мы разрешаем делать аборты.
А какова ситуация в СССР?
Владимир Познер: В Советской России аборт делает ТЕБЯ!!
Телемост Ленинград Сиэтл (1985)
Нет ничего лучше, чем попасть на глаза командующему Черноморским Флотом СССР, в списках представленных к наградам, по случаю очередного юбилея армии или Октябрьской революции.
Нет ничего хуже, чем попасться на те же глаза, но среди тех, о ком докладывают, как о дебоширах и возмутителях спокойствия. Каждую неделю, в понедельник, ровно к восьми часам, на стол командующему Черноморским Флотом, клали красную папку с золотым теснением изображавшим потонувший, уже очень давно, крейсер "Новороссийск". В этой папке подавалась сводка о происшествиях во вверенных в руки командующего подразделениях.
Каждую неделю было одно и тоже: дебоши, скандалы, офицеры били своих жен, дрались между собой, перебрав на грудь разведенного спирта. Докладывалось о том, что воруется горючее, расхищаются оборудование со складов технической помощи, бегут солдаты и матросы, соскучившиеся за юбками своих девчонок. Докладывалось о членовредительстве и убийствах., но то, что было написано в этот раз, командующего разозлило не на шутку.
Он уже привык ко всяким офицерским выходкам. но чтобы офицер Советской Армии, майор Военно-Воздушных Сил великой и непобедимой державы, штурман первого класса, снайпер, устроил на своем месте настоящий подпольный абортарий - такое было впервые!
Обычно, командующий, за неимением времени, только проглядывал донесения в красной папке, и не поднимая головы бросал стоявшему в кабинете дежурному офицеру:
- Разобраться, принять соответствующие меры и доложить, - но в этот раз, дежурный офицер подобострастно сообщил, чтобы товарищ командующий заострил свое драгоценное внимание на втором листе донесения, потому что описываемый случай выходил за рамки всего, что только возможно.
Командующий Черноморским Флотом, вздохнул и сразу начал чтение со второй страницы. Когда он дочитал до конца страницы, поднял голову на дежурного офицера, вопросительно посмотрел на него, как бы спрашивая: "Я не ошибся? Я правильно понял, что там написано?". но не дождавшись ответа, снова начал читать донесение, и снова дочитав до конца страницы заорал на дежурного офицера во все горло:
- Что это, блять, твориться? Вы что, совсем охренели? Найдите дело этого проклятого фашиста, как его? - Командующий заглянул в донесение. - Генрих Гринберг, и выгоните его нах... из Вооруженных Сил!!!! Кто его, немца поганого, до штурманского дела допустил? - спрашивал он стоявшего на вытяжку молодого капитана.
А тот поспешил заметить:
- Еврея, товарищ адмирал, еврея.
- Какого еврея? - смутился адмирал.
- Ну как же, майор, Генрих Гринберг и есть еврей.
- Как еврей?
- Самый натуральный.
- Ах, ты посмотри! - Адмирал хлопнул ладонью по столу, мало того, что немецкое имя носит, так еще в нашу авиацию пробрался!
- Так евреи, они такие, что вы хотите, куда захотят пролезут. - глумливо улыбаясь, заметил дежурный офицер.
- Разобраться и доложить! Никакой пощады!
- Так уже не надо разбираться, - скромно заметил дежурный офицер.
- Это еще почему?
- Товарищ адмирал, там, на третьем листе все написано....
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ:
Рождение.
Появление сына в семье известного врача Гринберга стало событием, которое в определенных кругах обсуждалось многими:
- Вы знаете, у талантливого Гринберга,(великим он станет позже), родился сын! Копия отец, просто копия....
Роды прошли более чем успешно, коллеги Льва Исааковича Гринберга, сделали все, чтобы процесс появления малыша на свет, прошел как можно безболезнее для роженицы.
Через час с небольшим, в родильном зале послышался голос малыша, Лев Исаакович стоявший все это время под дверьми родильного зала и стуча кулаком по стене, вздохнул спокойно. Сколько родов он принял, сколько благодарностей услышал от счастливых родителей, но когда рожала его жена, он не смог переступить порог родильного зала, так и стоял под дверьми стуча кулаком по стене.
Еще через некоторое время из зала вышли его коллеги, и поздравляли молодого отца.
Когда же жена и маленький ребенок оказались дома возник вопрос: как же назвать ребенка?
Лев Исаакович хотел назвать сына в честь своего отца Исааком, но супруга была категорически против:
- Ты что, забыл, в какой стране мы живем? Чтобы над нашим ребенком издевались, чтобы его все дразнили? Чтобы его обзывали "жидом пархатым"? Не позволю!
- А что, мы должны назвать его Васей? Или не дай Б-же Иваном?
- Ни в коем случае! Может назовем его Генрихом?
- С какой это стати дорогая? - уже возмутился Лев Исаакович. - Зачем нашему еврейскому мальчику немецкое имя?
-Это имя носили и евреи тоже, позволь тебе напомнить дорогой, что и наша фамилия Гринберг! - Ида Наумовна работала в Литературном институте и "сидела" на теме немецкого Романтизма.
- Дорогая, я что то упустил? О каких евреях идет речь?
- Так звали великого Гейне, милый.
- Ну если на то пошло, то Гейне при рождении назвали Хаимом..
- Ты хочешь, нашего мальчика назвать Хаимом? - перешла в атаку Ида Наумовна.
- Нет.
- Тогда пусть будет Генрих! - твердо сказала молодая мама и склонилась над маленьким человечком и любовно позвала его:
- Генрих Гринберг, вам пора кушать....
- Признайся дорогая, ты еще в роддоме придумала сыну это имя....
- Ты догадлив мой дорогой...
- Тогда пусть будет Генрих......
От года до четырнадцати.
Генрих Гринберг рос красивым и как положено еврею, умным мальчиком, Но каким бы гениальным он ни был, Генрих учился в обычной советской школе. Среди обычных советских детей.
Так же, как и они он гонял мяч, прыгал, бегал, не хотел заниматься музыкой, хотя мама его заставляла каждый день подходить к замечательному чешскому инструменту фирмы "Petroff", но ребенок на дух не переносил музыки. Ему не нравилась скрипка, купленная папой у какого-то антиквара, его воротило от гитары, он терпеть не мог Чайковского и Бетховена, Паганини, Когана и Хейфеца. Единственное, что утешало мать, это то, что непутевый сын, обожал математику. Он ей не занимался как положено, десять минут и все задания выполнены. Юный Генрих даже не задумывался над тем, как правильно решить те или иные уравнения или задачи. Он как бы видел решение сразу, шел к цели наикратчайшим путем. На уроках математики ему было скучно и неинтересно и учитель, Евгений Борисович Слуцкер, нашел выход из сложившейся ситуации. Он просто давал ребенку решать другие задачи. В шестом классе он давал Генриху задачи за восьмой класс, а в восьмом, задачи курса университета. Тем самым учитель получал двойную п
ользу. Генрих Гринберг повышал свой математический уровень, а с другой стороны не мешал никому в классе.
Но не за это ценили Генриха одноклассники, точнее сказать мужская половина класса. Не зато ценили Генриха все мальчики школы, начиная с пятого и заканчивая выпускным классом.
Математиков сколько хочешь на планете, и в школе их навалом, конечно не таких сильных, но математикой никого не удивишь. А вот принести, тайком утащенные у отца книги, по сексологии, строению женского организма, где очень много, много картинок, какие-то трактаты на немецком и английском языках, где подробно нарисовано, как, и главное, в каких позах можно заниматься сексом, все это принести в советскую школу, где сверстники перерисовывали картинки, фотографировали целые страницы, принесенным для этих целей фотоаппаратом "Смена", вот это подвиг, вот за это Генриха любили и в обиду никто не давал. Генриха никто не бил и главное, никто никогда не назвал евреем, жидом, никто не намекнул на пятую Генрихову графу.
Так, благодаря своему папе гинекологу, его сын Генрих Гринберг, приобрел в советской школе статус "ценного еврея".
От пятнадцати до семнадцати.
В комсомол Генрих вступил одним из первых. Это была своеобразная благодарность одноклассников за долгое снабжение их порнографическими, по их мнению, материалами. И когда, на классном часе, начали выбирать кандидатуры в члены ВЛКСМ, то имя Генриха прозвучало одним из первых. Для этого даже пришли несколько старшеклассников, которые рассказали всему классу, что Генрих, по их мнению, прекрасный человек, надежный друг, умеет держать данное слово и морально готов стать членом ленинского комсомола.
Еще через год, перед Генрихом стал вопрос о выборе профессии, нужно было определяться, какую специальность дальше получать.
Для Льва Исааковича такой вопрос вообще не стоял. К этому времени, когда кто либо говорил о, уже профессоре, Гринберге, обязательно добавлял эпитет "великий". Лев Исаакович твердо знал, что его сын закончив школу, будет учиться в медицинском, специализацию выберет сам, но будет работать врачом, как отец, как его дед, прадед и еще много других родственников....
Но у молодого Генриха были свои представления о будущей профессии. Он просто болел небом. Вся его комната была заставлена склеенными моделями военных самолетов, его совсем не интересовала медицина, он читал книги по истории авиации, сражениях последней войны, ходил на встречи с летчиками- ветеранами, но Генрих хотел быть не просто летчиком, а летчиком морской авиации. Небо и море! Что может быть прекраснее?
Родители сквозь пальцы смотрели на увлечение сына и спохватились только тогда, когда Генрих Львович Гринберг, за обедом, заявил родителям, что поступать он будет только в летное училище.
- Куда? - Переспросил отец и чуть не подавился куском фаршированного карпа.
- В летное училище, папа. Я хочу быть военным летчиком.
- Кем? - Переспросила мама и отложила в сторону нож и вилку.
- Родители, успокойтесь, да, я не буду врачом, я хочу быть военным летчиком....
- Ида, ты представляешь себе военного летчика Генриха Львовича Гринберга? - спросил отец свою жену, еле сдерживаясь.
- Нет.
- Папа, а почему я не могу быть военным летчиком? Почему я обязан быть именно врачом?
- Да хоть инженером, на зарплате в сто двадцать рублей, но летчиком ты не будешь.
- Ты не позволишь?
- Советская власть, сынуля.
- Чем тебе не нравится наша власть, папа? Думаешь я не знаю, какие вы здесь ведете разговоры, когда собираются все наши родственники, и твои друзья евреи, когда вы закрываетесь в зале и шепотом разговариваете? Думаешь я не знаю, для чего ты приобрел приемник "Филипс"? И какое ты имеешь права так говорить о нашей власти?
- Сынок, никакого, ты прав. Давай, когда придет время мы вместе пойдем в военкомат....
- Я не маленький, папа.
- Именно поэтому мы пойдем вместе.....
Еще через семь месяцев Генрих стал курсантом военного училища. Его будущая профессия была - штурман, потому что никто никогда бы, боевую советскую машину, стоившую многие миллионы рублей, в руки еврею не доверил бы. Ну ладно там танк или самоходку, но самолет, тем более бомбардировщик. Еврею - никогда.
- Понимаешь, Генрих, - говорил начальник военкомата, в присутствии Льва Исааковича, - не доверят тебе.
- Ну почему, почему? Я такой же советский человек и паспорт у меня советский, более того, я школу с медалью буду заканчивать и хочу защищать родину.
-Как тебе объяснить, Генрих, как же тебе правильно объяснить...
- Как есть, так и говорите! - Потребовал Генрих.
- Да простит меня твой папа, он гениальный человек, помог моим троим детям на свет появиться, но....
- Что но? - Генриху не терпелось услышать ответ.
- В Израиль, Генрих, на танке не доедешь и самоходку туда не угонишь, а вот самолет запросто.
Лев Исаакович при этих словах весело улыбнулся...
- А при чем здесь Израиль? - Задал вопрос Генрих.
- Подрастешь, поймешь, сынок. - Сказал отец.
- Но, Генрих, если ты действительно хочешь летать, то не обязательно быть летчиком, ты можешь быть штурманом. Хотя я знаю, что твои родители мечтают, чтобы ты стал врачом. - Заметил военком.
- А я мечтаю быть летчиком.
- Что поделаешь, Генрих, тебе придется выбирать или ты будешь получать профессию штурмана и будешь штурманом самолета, или ты никогда не будешь летчиком и не будешь летать...
Генрих посмотрел на отца.
- Сынок, не смотри на меня, это твоя жизнь и ты сам должен принимать решение.
Молодой Гринберг задумался на секунду, вероятно взвешивая все за и против и сказал:
- Я согласен.
Вот так просто Генрих Львович Гринберг решил свою судьбу.
Родители скрепя сердце, но не подав больше вида, согласились с выбором сына.
Они его любили, а сын любил Советскую власть и хотел ее защищать....
От двадцати двух до тридцати семи.
Летная карьера Генриха Гринберга началась на Дальнем Востоке. Работа штурмана полностью поглотила офицера. Он получал огромное удовольствие от службы. Он обожал, когда самолет ревя своими огромными турбинами разгоняется и поднимается в воздух, ему нравился сам момент отрыва от земли, взлет и переход к выполнению боевого задания. Его расчеты всегда были верны и каждый раз он выводил свой самолет в заданную точку определенного квадрата в расчетное время . Командир экипажа всегда давал своему штурману лучшие характеристики.
Еще через год Генрих Львович Гринберг женился на молодой учительнице, вернувшейся в родной гарнизон, после окончания института. И хотя будущие тесть с тещей были против брака дочери и смирились с ее выбором только тогда, когда та, собрав вещи, переехала к Генриху, в его холостяцкую комнату в офицерском общежитии.
Леночка, именно так звали молодую супругу старшего лейтенанта Гринберга, выходя замуж сменила свою фамилию - Васильева, на фамилию мужа. По этому поводу, тесть устроил отдельную пьянку с дебошем и битьем посуды, с проклятиями в адрес всех обрезанных, жидов и сионистов, но ничего по сути дела поделать не мог. Род Васильевых прекращал свое существование....
А через некоторое время, Генрих получил свой первый перевод и уехал с молодой супругой, бывшей на седьмом месяце беременности еще дальше в тайгу, где продолжил свою службу. У нового командира полка он попросил несколько дней отпуска и отвез жену к родителям, там, он знал, она будет в абсолютной безопасности и главное, папа сделает все, чтобы его ребенок родился в самых лучших условиях, что и произошло через некоторое время, пока Генрих с новым экипажем взлетал направляя свой самолет то к Аляске, до которой было рукой подать. то к полюсу, выполняя задания поступающие от командира воздушной армии.
Через три с половиной года Генриха перевели на юг, потому что советский офицер должен послужить во всех климатических зонах Советского Союза. Карьера его была прекрасной. И делал он ее сам. Через некоторое время Генрих Гринберг получил майора и ждал повышения в должности. Его должны были назначить главным штурманом полка, кандидатур было много, могли взять любого штурмана в полку, даже того, кто имел больше выслуги, часов налета, или же перевести кого нибудь из других частей, но комполка настоял, чтобы назначили Генриха. Его собственного штурмана. С которым у него сложились прекрасные, не только профессиональные отношения.
Но назначению не суждено было сбыться. В один из дней, майора Гринберга вызвали в штаб и в присутствии замполита и начальника особого отдела, командир полка объявил, что отстраняет майора Гринберга от штурманской работы и что самое важное от полетов.
- За что? - только и успел спросить Гринберг.
- Генрих, вы знаете Бориса Семеновича Лазаревского? - спросил начальник особого отдела, майор Федоров.
- Да, это мой двоюродный брат.
- А Юлию Абрамовну Лазаревскую?
- Это его жена. А при чем здесь мои родственники?
- Как бы и не причем, - продолжал Федоров, но понимаете, ваш брат, его жена, подали прошение на выезд в Израиль.
- А при чем здесь я?
- Ну это же ваш брат... и это еще не все. Наше правительство решило отказать физику Лазаревскому и не разрешает ему эмигрировать, так ваш брат, вместе с женой и другими асоциальными элементами устроили постоянную голодовку возле главпочтамта в Москве. Себя они называют узниками Сиона или как там, кроме того, заявляют о своей причастности к мировому сионистскому движению....
- Ну а при чем здесь я? Я советский офицер! Вы не имеете права!
- Генрих, - в разговор вступил командир полка, - ты знаешь, что для меня ты лучший штурман и награды за свое мастерство носишь не зря, но так сложились обстоятельства, что ты больше не будешь летать. И к сожалению любимым делом заниматься не будешь. У меня есть к тебе предложение. Ты знаешь, что у нас в гарнизоне ставится катапульта, будет целый тренировочный центр для офицеров- летчиков нашего флота, предлагаю тебе занять эту должность, скажу сразу, что товарищ замполит согласен с моим предложением тебе, да и у товарища Федорова, возражений нет. Я правильно говорю? - Спросил он уже майора Федорова.
- Так точно, товарищ полковник.
- Нет, я отказываюсь это понимать... - начал говорить майор Гринберг...
- Генрих, иди домой, даю тебе неделю отгулов, тебе просто надо смериться с этой мыслью....
Дома, впервые в жизни Генрих напился, а жена, услышав причину перевода мужа на нижестоящую должность авторитетно заявила:
- Генрих, если армия, вот так разбрасывается своими лучшими офицерами, то на кой ляд нам такая армия?
- Ты ничего не понимаешь, дура! - заорал Генрих и ушел в запой из которого с трудом вернулся через пару месяцев.
А Борис Семенович Лазаревский летел в Израиль, на встречу с родиной о которой так долго мечтал.
Генрих Львович Гринберг прощался со своей сбывшейся мечтой, погружая свое горе в стакан, зная, что никогда больше не будет летать....
От тридцати семи до сорока.
Хочешь не хочешь, а жизнь продолжается. Служба никуда не делась, и надо каждое утро к восьми часам быть на построении. После чего Генрих Гринберг шел к себе в учебный центр. Прошел год, после того, как его отстранили от полетов, прошло два года, а Генрих не мог снова войти в привычную колею своей жизни. Все чаще и чаще он появлялся дома пьяным, иногда, поколачивал свою жену, которая все так же любила его. Елена Гринберг писала свекру и свекрови, те приезжали, пытались вразумить сына, но все было бесполезно, без неба Генрих умирал, убивал себя, забывая о том, что рядом с ним есть женщина, которая им дорожит, есть трое детей, которым он нужен. Генриху было плохо. А из Советской Армии просто так уйти было невозможно. Дошло до того, что на службе майор Гринберг появлялся в нетрезвом виде.
С ним разговаривала мать, слезно молила жена, но Генрих продолжал пить.
С ним говорил отец, убеждал, но все было бесполезно.
- Ты знаешь, папа, а ты был прав, лучше бы я стал врачом, гинекологом, как ты, никто бы не посмел бы со мной так поступить....
- Генрих, ты стал кем захотел и должен достойно вынести испытания уготованные тебе жизнью.
- Папа! Для меня армия - все! Понимаешь - все! Я люблю небо, я не могу жить без него!
- Тебе придется научиться...
Генрих налил себе полный стакан водки, шикнул на вошедшую жену, и выпил залпом, даже не поморщившись.
Его лицо стало злым, глаза налились кровью и он сказал:
- Если бы ты знал папа, как я ненавижу евреев....
- Лучше бы ты действительно стал врачом. -ответил отец и вышел из кухни где они разговаривали.
Больше Генрих никогда не видел отца. Когда он очухался, проспался, умылся, когда убрал целую гору бутылок, нашел записку от жены, в которой она писала, что уезжает к его родителям, забирает с собой детей, и вернется только в одном случае, если Генрих перестанет пить.
- А я то думаю, чего в доме так тихо? - спросил Генрих сам себя и скомкав записку бросил ее в угол комнаты... Надо было идти на службу....
Служба была противной и жизнь шла под откос.
Все последующие годы.
Ранним утром, сквозь сон, Генрих услышал, что дверной звонок надрывается птичьими переливами. Он с трудом встал с кровати, поискал ногами тапочки, но не найдя их, пошел босыми ногами по холодному полу, открывать входную дверь.
- Ну кто там ломится, кого черти принесли?
- Генрих, Генрих, открывай, это я, Леха Смородников. - донеслось из за двери.
Еще не совсем отошедший ото сна майор Гринберг открыл дверь.
- Ну чего тебе надо Леха?
- Генрих, выручай.
- Ничего себе! Выручай! Я водку уже всю выпил, ни хрена дома нет.
- Да я не за этим пришел.
- Ну проходи, разувайся, тапочки найди себе, а то пол холодный. - Генрих открыл дверь на распашку и пошел в залу. Леха Смородников всего около года служил в этом гарнизоне, летал во второй эскадрильи, к тому же был ее штатным замполитом. Летать... Для Генриха это осталось позади и всякий раз, когда самолеты его первой эскадрильи поднимались в воздух, Генрих наливал себе новый стакан и проклинал судьбу. Что ему еще оставалось, кроме, как пить водку и нажимать рычаг катапульты, чтобы летчики проходили тренировки, на случай аварийного катапультирования из самолета...
- Так что у тебя за дело, Леха? - Спросил Генрих, убрав со стола мусор и пустые бутылки... - Видишь, жена ушла, один живу... Ну так чего пришел?
- Дело у меня к тебе, Генрих.
- Не томи, ты так, что за дело?
- Генрих, только никому, я очень прошу, дай слово.
- Ну даю... - Генрих подавил в себе желание отрыгнуть и снова повторил, - даю тебе слово, что случилось-то?
- Слово коммуниста даешь?
- А на кой тебе мое коммунистическое слово?
- Ну так даешь или нет, потому что если ляпнешь где о том, что я тебе скажу, Генрих, приду, порешу тебя...
- Эх брат, Леха, куда тебя занесло, что будешь вербовать для какого-нибудь дела?
- Ну так дашь слово?
- Ладно, бери мое коммунистическое слово весте с партбилетом, только скажи уже, не мучай, что у тебя стряслось.
- Генрих, у меня залет...
- Чего у тебя? - Генрих прищурил бровь.
- Залет говорю, вся моя карьера под откос может пойти.
- И ты пришел ко мне за помощью? Леха, я не знаю как тебе помочь.
- Подожди. не спеши, - говорил Леха Смородников, дай рассказать.... В общем ты же знаешь, что мы с женой ждем второго ребенка.
- Угу.
- И сам понимаешь, сейчас, такой период времени, когда не могу в общем я с женой... того... ну...
- Сексом заниматься. - нагло уточнил Генрих.
- Вот, вот... Но мне то, как мужику хочется, Генрих, если я неделю без секса, то готов изнасиловать все, что движется...
- Дай угадаю, Леха, ты с кем то переспал...
- Да, и не один раз и главное не очень удачно. Прапорщица одна залетела от меня... А представь себе, что если кто-то узнает, об этом, замполит эскадрильи, пример для других летчиков идет на поводу у стоячего хера... Какая потом карьера, какие полеты и откуда звания посыпятся, если будет такой скандал....
- А чем я тебе могу помочь....
- Так ведь, это.... У тебя же отец гинеколог... Может позвонишь ему, приедет моя пассия, аборт там сделает, я с ней уже договорился, правда встанет мне это в кругленькую сумму, аж двести рублей, за аборт и компенсация за молчание.... Так может папа поможет решить мою проблему, я и ему заплачу, главное, чтобы никто ни о чем не узнал....
- Леха, прости, друг, но с папой не общаюсь, я с евреями больше вообще не общаюсь.
- Генрих, я тебя очень прошу, спаси боевого товарища.... Ну позвони...
- Звонить не буду. а вот помочь, за всегда пожалуйста.
- Это как?
- Я сам ей аборт сделаю....
- Ты... Ты охренел?
- Послушай, Смородников, мой папа, чай гинекологом работает, он даже профессор медицины...
- Но ты то, штурман, а не гинеколог!
- Зато у меня есть катапульта!
- Генрих ты я вижу совсем перепил водки.
- Нет, Леха, сколько бы водки я не выпил, а мозги пропить нельзя. Вот сам катапультировался когда нибудь?
- И не раз, правда, слава Господу, только на тренажере.
- Так где находятся твои яйца, когда ты с бешенной скоростью летишь вверх?
- Ну... это....
- Правильно мыслишь, замполит! Твои яйца, как и все твои внутренности не успевают за полетом тела. перегрузка огромная. Так ответь мне, почему у женщины все должно быть иначе. Ее тоже выкинет катапульта, все внутри оборвется, плод естественным образом перестанет жить отделившись от внутренних стенок матки. Начнется кровотечение и спокойно можно констатировать выкидыш. После этого, ты отвезешь свою прапорщицу в больничку, или пускай медики везут, и все тихо спокойно... Никто никакого вопроса не задаст. Выкидыш, мой дорогой Леха, это не аборт....
- Ты сейчас это придумал, на пьяную голову?
- Ага. - Генрих улыбнулся и почесал небритый подбородок. - Только что.
- И ты думаешь это сработает?
- Против законов физики не попрешь.... Ты только свою прапорщицу уговори....
Через два дня, штурман первого класса, штурман - снайпер Генрих Гринберг сделал первый в свой жизни катапультный аборт.
Для Лехи Смородникова он обошелся в двести пятьдесят рублей для залетевшей любовницы, та надбавила сумму за возможный стресс, и пять бутылок водки для "начальника катапульты" Гринберга...
Через три недели Генрих Гринберг понял, что пора менять специализацию. Как с Судьбой не шути, как от нее не увиливай, не делай ей наперекор, все равно, она выведет тебя на ту самую дорогу, по которой должен идти. За три недели, к Генриху обратилось сразу пять женщин, и в качестве оплаты за помощь, в избавлении от нежелательной беременности, каждая предлагала что то свое. Одна принесла водку, другая предложила несколько мешков картошки и разных овощей на зиму, она работала в летной столовой и все эти продукты ей ничего не стоили, а одна девушка, дочь очень строгих родителей, предложила бесплатный минет. Так она все делает за деньги, а Генриху Львовичу - уважаемому человеку, поможет совершенно бесплатно, если конечно, товарищ майор согласится помочь юной деве...
И как тут спрашивается не согласится? Генрих Гринберг жил один, можно сказать холостяком, ну как не помочь девушке в такой тяжелый момент...
В один из дней, Генрих явился в библиотеку в Доме Офицеров и там, а для него, как для читающего, фонд книг был всегда открыт, он перерыл все книги по медицине, но не нашел те, которые ему были нужны. Генрих заранее составил список из, более чем тридцати наименований, но ни одной из разыскиваемых книг по гинекологии в библиотеке не оказалось. Да и что там могло оказаться, когда раздел медицины был меньше чем в половину книжного стеллажа, зато всякая партийная дребедень занимала четверть библиотеки. Список Генрих, составлял по памяти. Он закрывал глаза и вспоминал, как ребенком, перебирал книги в папиных шкафах, он мысленно доставал книгу с полки, читал название, потом записывал его себе на листочек, а после, закрывая глаза, так же, мысленно, бережно ставил на место и брал другую книгу.
В свободный от службы день Генрих поехал в крупный город, находящийся, в каких-то пятидесяти километрах и часть необходимой литературы нашел в библиотеке медицинского университета.
Что, что, а заниматься Генрих умел, он просто заранее составил план - вопросов, на которые хотел получить ответы, и писал, писал, писал.....
И уже дома, разбирая записи, он чувствовал, что у него нет оснований отказывать девушкам и женщинам в решении возникших проблем....
Правда жена Генриха никогда не делала аборты, потому что Генрих всегда пользовался презервативами, и не советскими, а заграничными, попадавши ему через отца. Пару сотен презервативов Генриху хватало на год или более, а как презервативы заканчивались, стоило только позвонить папе....
А вот в единственной гарнизонной аптеке, презервативы были постоянным дефицитом. То ли Светка-кривая, немолодая аптекарша со злым на весь мир лицом, их, презервативы, не заказывала и не привозила, то ли привозила, но в таких малых количествах, что те, кто спрашивал "резиновые штучки" уходили ни с чем...
А Генриха этим добром снабжал папа...
"Папа...." - Генрих вспомнил о нем и поморщился.... - "Папа... Черт с ним! С папой, с женой- предательницей, черт со штурманской работой, с летной и офицерской карьерой, буду заниматься тем, чем могу, Ах этот папа, как же ты оказался прав! Как же я тебя ненавижу! Как же я ненавижу самого себя!!!!! Будь я проклят! Нет, надо выпить и причем срочно!" - Генрих прошел на кухню, открыл бутылку водки, принесенную одной из просительниц и налил себе полный стакан....
После шестого катапультного аборта Генрих даже подумал о том, чтобы написать некое исследование по теме: "Аборт и катапульта". Тему диссертации можно, конечно, и покрасивее обозвать, что нибудь вроде: "Катапультное прерывание беременности" или "Применение летных технологий в гинекологической практике". Что нибудь придумать можно, а главное, материала насобирать для работы проблемы не составляет. Женщины сами приходят, просят, уговаривают, приходят обеспокоенные мужья, предлагают и водку и деньги, лишь бы Генрих Львович помог решить проблему возникшую нежданно - негаданно, потому что пойди женщина и заяви, что беременна, но аборт сделать хочет, так затребуют от нее тысячи справок, свидетельств и доказательств, все выспросят, все запишут, ехидненько при этом улыбаясь и нагло разглядывая... Многим женщинам не так страшно лечь с мужчиной в постель и заняться с ним сексом, как бегать по коридорам и объясняться, почему она решила аборт сделать. А если женщина партийная, так могут и
з каких-то личных мстительных побуждений "абортное дело" и на партсобрание вынести... Да ну его нахер! Лучше заплатить Генриху Львовичу, взлететь на проклятой катапульте и дело с концом. Никто не придерется после. После никто слова не скажет.
Катапультно-абортный кабинет открыл свою работу.
Жизнь для Генриха Гринберга обрела новый смысл. Теперь он был не просто служака, он вообще плюнул на службу, его больше не интересовало небо, полеты, его не интересовали звания и даже зарплата, потому что за месяц работы его катапультно-абортного кабинета он имел денег на много больше, чем ему платило государство. Генрих нагло злоупотреблял своим служебным положением и использовал его в своих, личных целях. Поначалу ему приносили водку, продукты, но потом он начал брать только деньги. Иногда производил катапультный аборт в обмен на какую-то необходимую услугу. То в гараже ворота поменять, то ремонт ему в квартире сделают, то еще что-то, а ему что? Рычаг нажал и кресло понеслось в небо! Да на такой службе он вечно бы работал, не просто до самой пенсии, а до смерти! Одно движение рукой и ты богатый человек!
Пусть папа завидует, пусть лазает в матку женщины зеркалами и щипцами, он, Генрих, делает все на много проще и, главное, имеет больше. Слава абортмахера Гринберга росла, как на дрожжах, скоро к нему начали приезжать из соседних колхозов, готовы были платить натурой и деньгами, лишь бы избавится от нежелательной беременности, потому что впереди посевная, а за ней уборка урожая, а там еще куча причин. К нему приезжали из мелких городков расположенных неподалеку и готовы были сесть в катапультирующееся кресло, лишь бы не иметь дело с официальной медициной...
после девяносто третьего аборта к нему на работу заглянул командир с намерением поговорить, но разговора не получилось. Генрих не стал слушать человека, с которым провел в небе сотни часов.
- А на хрена, командир? Ты можешь вернуть мне прошлое? Я снова буду штурманом? Я прекрасно знаю, на что я способен, и быть штурманом полка не предел для меня.
- Твои родственники...
- Да плевать я на них хотел...
- Но я делал все что мог...
- А мне уже плевать, ты знаешь, командир, очень давно, отец был против моей учебы в военном училище, он был прав, из меня вышел прекрасный абортолог, так можно сказать?
- Не знаю.
- Запиши новое слово, я, значит, его придумал. И не проси меня прекратить мои шахер-махеры, я не остановлюсь.
- Я подам документы на твое увольнение, статью придумаю, как минимум несоответствие занимаемой должности.
- Подавай, ты же знаешь, командир, я не пропаду. Я уже сейчас хорошо живу, буду жить еще лучше....
- Смотри, Генрих, я предупредил, - командир вышел не попрощавшись и впервые не пожал руку своему бывшему штурману.
- Иди, иди, плевал я на вас всех! - Заорал Генрих вслед командиру полка. А ведь когда-то они были дружны. Комполка ни с кем так не общался, как с Генрихом и его семьей. Они вместе ездили на рыбалку, встречали Новый год, отмечали семейные праздники, и вот теперь наступил полный разрыв...
Говорят, что у каждого хорошего врача есть свое большое кладбище. Цинично, но в какой-то степени верно. Гинекологи не исключение, но если врач ошибки в своей практике превращает во благо, то Генрих права на ошибку не имел, Его единственная ошибка, стала бы для него концом.
Двигая рычаг катапульты Генрих старался об этом не думать. Сто двадцатый аборт, сто семьдесят пятый, сто девяностый, а на двести третий произошла трагедия.
Когда кресло вернулась в исходное положение, Генрих увидел, что двадцатипятилетняя девушка приехавшая на аборт из соседнего колхоза - мертва. Шла кровь изо рта, носа, глаз, ушей, внизу, между ее ног растекалась огромная лужа крови. Генрих достаточно долго работал с катапультным аппаратом. чтобы сразу понять, что произошло. Избавиться от трупа он не мог, да и не хотел, там, за пределами его учебного центра, стояла "копейка", где девушку ждал молодой человек. Нужно было что-то решать и Генрих решил. Сняв умершую с кресла, он отнес ее в учебный класс и положил на стол. После, взял тряпки, швабру и начал замывать следы крови, очистил как мог катапультное кресло, привел все помещение в более менее божеский вид а потом набрал номер телефона и когда ему ответили на том конце трубки, просто сказал:
- Командир, я убил человека.
Через пятнадцать минут, командир полка и еще двое доверенных офицеров прибежали в учебный центр, и то в классе нашли два трупа: девушка лежала на столе, а Генрих Гринберг висел на веревке, которая была зацеплена за крюк, на котором раньше крепилась классная доска.
Командующий Флотом нехотя прочитал третий лист донесения, поморщился и уже успокоившись сказал:
- Туда и дорога, жиду этому. Но все равно расследование проведите.
ХХХХХ
Говорят, что вся семья Гринбергов еще до развала СССР уехала в Америку. Старый дед с бабкой, их невестка Елена, и трое внуков. Так же говорят, что внучка Льва Исааковича работает гинекологом где то в Голливуде, а двое внуков работают хирургами в госпитале армии США в Ираке....
Генрих Гринберг в семье - запретная тема для разговоров.
Фил Донахью: В Америке мы разрешаем делать аборты.
А какова ситуация в СССР?
Владимир Познер: В Советской России аборт делает ТЕБЯ!!
Телемост Ленинград Сиэтл (1985)
Нет ничего лучше, чем попасть на глаза командующему Черноморским Флотом СССР, в списках представленных к наградам, по случаю очередного юбилея армии или Октябрьской революции.
Нет ничего хуже, чем попасться на те же глаза, но среди тех, о ком докладывают, как о дебоширах и возмутителях спокойствия. Каждую неделю, в понедельник, ровно к восьми часам, на стол командующему Черноморским Флотом, клали красную папку с золотым теснением изображавшим потонувший, уже очень давно, крейсер "Новороссийск". В этой папке подавалась сводка о происшествиях во вверенных в руки командующего подразделениях.
Каждую неделю было одно и тоже: дебоши, скандалы, офицеры били своих жен, дрались между собой, перебрав на грудь разведенного спирта. Докладывалось о том, что воруется горючее, расхищаются оборудование со складов технической помощи, бегут солдаты и матросы, соскучившиеся за юбками своих девчонок. Докладывалось о членовредительстве и убийствах., но то, что было написано в этот раз, командующего разозлило не на шутку.
Он уже привык ко всяким офицерским выходкам. но чтобы офицер Советской Армии, майор Военно-Воздушных Сил великой и непобедимой державы, штурман первого класса, снайпер, устроил на своем месте настоящий подпольный абортарий - такое было впервые!
Обычно, командующий, за неимением времени, только проглядывал донесения в красной папке, и не поднимая головы бросал стоявшему в кабинете дежурному офицеру:
- Разобраться, принять соответствующие меры и доложить, - но в этот раз, дежурный офицер подобострастно сообщил, чтобы товарищ командующий заострил свое драгоценное внимание на втором листе донесения, потому что описываемый случай выходил за рамки всего, что только возможно.
Командующий Черноморским Флотом, вздохнул и сразу начал чтение со второй страницы. Когда он дочитал до конца страницы, поднял голову на дежурного офицера, вопросительно посмотрел на него, как бы спрашивая: "Я не ошибся? Я правильно понял, что там написано?". но не дождавшись ответа, снова начал читать донесение, и снова дочитав до конца страницы заорал на дежурного офицера во все горло:
- Что это, блять, твориться? Вы что, совсем охренели? Найдите дело этого проклятого фашиста, как его? - Командующий заглянул в донесение. - Генрих Гринберг, и выгоните его нах... из Вооруженных Сил!!!! Кто его, немца поганого, до штурманского дела допустил? - спрашивал он стоявшего на вытяжку молодого капитана.
А тот поспешил заметить:
- Еврея, товарищ адмирал, еврея.
- Какого еврея? - смутился адмирал.
- Ну как же, майор, Генрих Гринберг и есть еврей.
- Как еврей?
- Самый натуральный.
- Ах, ты посмотри! - Адмирал хлопнул ладонью по столу, мало того, что немецкое имя носит, так еще в нашу авиацию пробрался!
- Так евреи, они такие, что вы хотите, куда захотят пролезут. - глумливо улыбаясь, заметил дежурный офицер.
- Разобраться и доложить! Никакой пощады!
- Так уже не надо разбираться, - скромно заметил дежурный офицер.
- Это еще почему?
- Товарищ адмирал, там, на третьем листе все написано....
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ:
Рождение.
Появление сына в семье известного врача Гринберга стало событием, которое в определенных кругах обсуждалось многими:
- Вы знаете, у талантливого Гринберга,(великим он станет позже), родился сын! Копия отец, просто копия....
Роды прошли более чем успешно, коллеги Льва Исааковича Гринберга, сделали все, чтобы процесс появления малыша на свет, прошел как можно безболезнее для роженицы.
Через час с небольшим, в родильном зале послышался голос малыша, Лев Исаакович стоявший все это время под дверьми родильного зала и стуча кулаком по стене, вздохнул спокойно. Сколько родов он принял, сколько благодарностей услышал от счастливых родителей, но когда рожала его жена, он не смог переступить порог родильного зала, так и стоял под дверьми стуча кулаком по стене.
Еще через некоторое время из зала вышли его коллеги, и поздравляли молодого отца.
Когда же жена и маленький ребенок оказались дома возник вопрос: как же назвать ребенка?
Лев Исаакович хотел назвать сына в честь своего отца Исааком, но супруга была категорически против:
- Ты что, забыл, в какой стране мы живем? Чтобы над нашим ребенком издевались, чтобы его все дразнили? Чтобы его обзывали "жидом пархатым"? Не позволю!
- А что, мы должны назвать его Васей? Или не дай Б-же Иваном?
- Ни в коем случае! Может назовем его Генрихом?
- С какой это стати дорогая? - уже возмутился Лев Исаакович. - Зачем нашему еврейскому мальчику немецкое имя?
-Это имя носили и евреи тоже, позволь тебе напомнить дорогой, что и наша фамилия Гринберг! - Ида Наумовна работала в Литературном институте и "сидела" на теме немецкого Романтизма.
- Дорогая, я что то упустил? О каких евреях идет речь?
- Так звали великого Гейне, милый.
- Ну если на то пошло, то Гейне при рождении назвали Хаимом..
- Ты хочешь, нашего мальчика назвать Хаимом? - перешла в атаку Ида Наумовна.
- Нет.
- Тогда пусть будет Генрих! - твердо сказала молодая мама и склонилась над маленьким человечком и любовно позвала его:
- Генрих Гринберг, вам пора кушать....
- Признайся дорогая, ты еще в роддоме придумала сыну это имя....
- Ты догадлив мой дорогой...
- Тогда пусть будет Генрих......
От года до четырнадцати.
Генрих Гринберг рос красивым и как положено еврею, умным мальчиком, Но каким бы гениальным он ни был, Генрих учился в обычной советской школе. Среди обычных советских детей.
Так же, как и они он гонял мяч, прыгал, бегал, не хотел заниматься музыкой, хотя мама его заставляла каждый день подходить к замечательному чешскому инструменту фирмы "Petroff", но ребенок на дух не переносил музыки. Ему не нравилась скрипка, купленная папой у какого-то антиквара, его воротило от гитары, он терпеть не мог Чайковского и Бетховена, Паганини, Когана и Хейфеца. Единственное, что утешало мать, это то, что непутевый сын, обожал математику. Он ей не занимался как положено, десять минут и все задания выполнены. Юный Генрих даже не задумывался над тем, как правильно решить те или иные уравнения или задачи. Он как бы видел решение сразу, шел к цели наикратчайшим путем. На уроках математики ему было скучно и неинтересно и учитель, Евгений Борисович Слуцкер, нашел выход из сложившейся ситуации. Он просто давал ребенку решать другие задачи. В шестом классе он давал Генриху задачи за восьмой класс, а в восьмом, задачи курса университета. Тем самым учитель получал двойную п
ользу. Генрих Гринберг повышал свой математический уровень, а с другой стороны не мешал никому в классе.
Но не за это ценили Генриха одноклассники, точнее сказать мужская половина класса. Не зато ценили Генриха все мальчики школы, начиная с пятого и заканчивая выпускным классом.
Математиков сколько хочешь на планете, и в школе их навалом, конечно не таких сильных, но математикой никого не удивишь. А вот принести, тайком утащенные у отца книги, по сексологии, строению женского организма, где очень много, много картинок, какие-то трактаты на немецком и английском языках, где подробно нарисовано, как, и главное, в каких позах можно заниматься сексом, все это принести в советскую школу, где сверстники перерисовывали картинки, фотографировали целые страницы, принесенным для этих целей фотоаппаратом "Смена", вот это подвиг, вот за это Генриха любили и в обиду никто не давал. Генриха никто не бил и главное, никто никогда не назвал евреем, жидом, никто не намекнул на пятую Генрихову графу.
Так, благодаря своему папе гинекологу, его сын Генрих Гринберг, приобрел в советской школе статус "ценного еврея".
От пятнадцати до семнадцати.
В комсомол Генрих вступил одним из первых. Это была своеобразная благодарность одноклассников за долгое снабжение их порнографическими, по их мнению, материалами. И когда, на классном часе, начали выбирать кандидатуры в члены ВЛКСМ, то имя Генриха прозвучало одним из первых. Для этого даже пришли несколько старшеклассников, которые рассказали всему классу, что Генрих, по их мнению, прекрасный человек, надежный друг, умеет держать данное слово и морально готов стать членом ленинского комсомола.
Еще через год, перед Генрихом стал вопрос о выборе профессии, нужно было определяться, какую специальность дальше получать.
Для Льва Исааковича такой вопрос вообще не стоял. К этому времени, когда кто либо говорил о, уже профессоре, Гринберге, обязательно добавлял эпитет "великий". Лев Исаакович твердо знал, что его сын закончив школу, будет учиться в медицинском, специализацию выберет сам, но будет работать врачом, как отец, как его дед, прадед и еще много других родственников....
Но у молодого Генриха были свои представления о будущей профессии. Он просто болел небом. Вся его комната была заставлена склеенными моделями военных самолетов, его совсем не интересовала медицина, он читал книги по истории авиации, сражениях последней войны, ходил на встречи с летчиками- ветеранами, но Генрих хотел быть не просто летчиком, а летчиком морской авиации. Небо и море! Что может быть прекраснее?
Родители сквозь пальцы смотрели на увлечение сына и спохватились только тогда, когда Генрих Львович Гринберг, за обедом, заявил родителям, что поступать он будет только в летное училище.
- Куда? - Переспросил отец и чуть не подавился куском фаршированного карпа.
- В летное училище, папа. Я хочу быть военным летчиком.
- Кем? - Переспросила мама и отложила в сторону нож и вилку.
- Родители, успокойтесь, да, я не буду врачом, я хочу быть военным летчиком....
- Ида, ты представляешь себе военного летчика Генриха Львовича Гринберга? - спросил отец свою жену, еле сдерживаясь.
- Нет.
- Папа, а почему я не могу быть военным летчиком? Почему я обязан быть именно врачом?
- Да хоть инженером, на зарплате в сто двадцать рублей, но летчиком ты не будешь.
- Ты не позволишь?
- Советская власть, сынуля.
- Чем тебе не нравится наша власть, папа? Думаешь я не знаю, какие вы здесь ведете разговоры, когда собираются все наши родственники, и твои друзья евреи, когда вы закрываетесь в зале и шепотом разговариваете? Думаешь я не знаю, для чего ты приобрел приемник "Филипс"? И какое ты имеешь права так говорить о нашей власти?
- Сынок, никакого, ты прав. Давай, когда придет время мы вместе пойдем в военкомат....
- Я не маленький, папа.
- Именно поэтому мы пойдем вместе.....
Еще через семь месяцев Генрих стал курсантом военного училища. Его будущая профессия была - штурман, потому что никто никогда бы, боевую советскую машину, стоившую многие миллионы рублей, в руки еврею не доверил бы. Ну ладно там танк или самоходку, но самолет, тем более бомбардировщик. Еврею - никогда.
- Понимаешь, Генрих, - говорил начальник военкомата, в присутствии Льва Исааковича, - не доверят тебе.
- Ну почему, почему? Я такой же советский человек и паспорт у меня советский, более того, я школу с медалью буду заканчивать и хочу защищать родину.
-Как тебе объяснить, Генрих, как же тебе правильно объяснить...
- Как есть, так и говорите! - Потребовал Генрих.
- Да простит меня твой папа, он гениальный человек, помог моим троим детям на свет появиться, но....
- Что но? - Генриху не терпелось услышать ответ.
- В Израиль, Генрих, на танке не доедешь и самоходку туда не угонишь, а вот самолет запросто.
Лев Исаакович при этих словах весело улыбнулся...
- А при чем здесь Израиль? - Задал вопрос Генрих.
- Подрастешь, поймешь, сынок. - Сказал отец.
- Но, Генрих, если ты действительно хочешь летать, то не обязательно быть летчиком, ты можешь быть штурманом. Хотя я знаю, что твои родители мечтают, чтобы ты стал врачом. - Заметил военком.
- А я мечтаю быть летчиком.
- Что поделаешь, Генрих, тебе придется выбирать или ты будешь получать профессию штурмана и будешь штурманом самолета, или ты никогда не будешь летчиком и не будешь летать...
Генрих посмотрел на отца.
- Сынок, не смотри на меня, это твоя жизнь и ты сам должен принимать решение.
Молодой Гринберг задумался на секунду, вероятно взвешивая все за и против и сказал:
- Я согласен.
Вот так просто Генрих Львович Гринберг решил свою судьбу.
Родители скрепя сердце, но не подав больше вида, согласились с выбором сына.
Они его любили, а сын любил Советскую власть и хотел ее защищать....
От двадцати двух до тридцати семи.
Летная карьера Генриха Гринберга началась на Дальнем Востоке. Работа штурмана полностью поглотила офицера. Он получал огромное удовольствие от службы. Он обожал, когда самолет ревя своими огромными турбинами разгоняется и поднимается в воздух, ему нравился сам момент отрыва от земли, взлет и переход к выполнению боевого задания. Его расчеты всегда были верны и каждый раз он выводил свой самолет в заданную точку определенного квадрата в расчетное время . Командир экипажа всегда давал своему штурману лучшие характеристики.
Еще через год Генрих Львович Гринберг женился на молодой учительнице, вернувшейся в родной гарнизон, после окончания института. И хотя будущие тесть с тещей были против брака дочери и смирились с ее выбором только тогда, когда та, собрав вещи, переехала к Генриху, в его холостяцкую комнату в офицерском общежитии.
Леночка, именно так звали молодую супругу старшего лейтенанта Гринберга, выходя замуж сменила свою фамилию - Васильева, на фамилию мужа. По этому поводу, тесть устроил отдельную пьянку с дебошем и битьем посуды, с проклятиями в адрес всех обрезанных, жидов и сионистов, но ничего по сути дела поделать не мог. Род Васильевых прекращал свое существование....
А через некоторое время, Генрих получил свой первый перевод и уехал с молодой супругой, бывшей на седьмом месяце беременности еще дальше в тайгу, где продолжил свою службу. У нового командира полка он попросил несколько дней отпуска и отвез жену к родителям, там, он знал, она будет в абсолютной безопасности и главное, папа сделает все, чтобы его ребенок родился в самых лучших условиях, что и произошло через некоторое время, пока Генрих с новым экипажем взлетал направляя свой самолет то к Аляске, до которой было рукой подать. то к полюсу, выполняя задания поступающие от командира воздушной армии.
Через три с половиной года Генриха перевели на юг, потому что советский офицер должен послужить во всех климатических зонах Советского Союза. Карьера его была прекрасной. И делал он ее сам. Через некоторое время Генрих Гринберг получил майора и ждал повышения в должности. Его должны были назначить главным штурманом полка, кандидатур было много, могли взять любого штурмана в полку, даже того, кто имел больше выслуги, часов налета, или же перевести кого нибудь из других частей, но комполка настоял, чтобы назначили Генриха. Его собственного штурмана. С которым у него сложились прекрасные, не только профессиональные отношения.
Но назначению не суждено было сбыться. В один из дней, майора Гринберга вызвали в штаб и в присутствии замполита и начальника особого отдела, командир полка объявил, что отстраняет майора Гринберга от штурманской работы и что самое важное от полетов.
- За что? - только и успел спросить Гринберг.
- Генрих, вы знаете Бориса Семеновича Лазаревского? - спросил начальник особого отдела, майор Федоров.
- Да, это мой двоюродный брат.
- А Юлию Абрамовну Лазаревскую?
- Это его жена. А при чем здесь мои родственники?
- Как бы и не причем, - продолжал Федоров, но понимаете, ваш брат, его жена, подали прошение на выезд в Израиль.
- А при чем здесь я?
- Ну это же ваш брат... и это еще не все. Наше правительство решило отказать физику Лазаревскому и не разрешает ему эмигрировать, так ваш брат, вместе с женой и другими асоциальными элементами устроили постоянную голодовку возле главпочтамта в Москве. Себя они называют узниками Сиона или как там, кроме того, заявляют о своей причастности к мировому сионистскому движению....
- Ну а при чем здесь я? Я советский офицер! Вы не имеете права!
- Генрих, - в разговор вступил командир полка, - ты знаешь, что для меня ты лучший штурман и награды за свое мастерство носишь не зря, но так сложились обстоятельства, что ты больше не будешь летать. И к сожалению любимым делом заниматься не будешь. У меня есть к тебе предложение. Ты знаешь, что у нас в гарнизоне ставится катапульта, будет целый тренировочный центр для офицеров- летчиков нашего флота, предлагаю тебе занять эту должность, скажу сразу, что товарищ замполит согласен с моим предложением тебе, да и у товарища Федорова, возражений нет. Я правильно говорю? - Спросил он уже майора Федорова.
- Так точно, товарищ полковник.
- Нет, я отказываюсь это понимать... - начал говорить майор Гринберг...
- Генрих, иди домой, даю тебе неделю отгулов, тебе просто надо смериться с этой мыслью....
Дома, впервые в жизни Генрих напился, а жена, услышав причину перевода мужа на нижестоящую должность авторитетно заявила:
- Генрих, если армия, вот так разбрасывается своими лучшими офицерами, то на кой ляд нам такая армия?
- Ты ничего не понимаешь, дура! - заорал Генрих и ушел в запой из которого с трудом вернулся через пару месяцев.
А Борис Семенович Лазаревский летел в Израиль, на встречу с родиной о которой так долго мечтал.
Генрих Львович Гринберг прощался со своей сбывшейся мечтой, погружая свое горе в стакан, зная, что никогда больше не будет летать....
От тридцати семи до сорока.
Хочешь не хочешь, а жизнь продолжается. Служба никуда не делась, и надо каждое утро к восьми часам быть на построении. После чего Генрих Гринберг шел к себе в учебный центр. Прошел год, после того, как его отстранили от полетов, прошло два года, а Генрих не мог снова войти в привычную колею своей жизни. Все чаще и чаще он появлялся дома пьяным, иногда, поколачивал свою жену, которая все так же любила его. Елена Гринберг писала свекру и свекрови, те приезжали, пытались вразумить сына, но все было бесполезно, без неба Генрих умирал, убивал себя, забывая о том, что рядом с ним есть женщина, которая им дорожит, есть трое детей, которым он нужен. Генриху было плохо. А из Советской Армии просто так уйти было невозможно. Дошло до того, что на службе майор Гринберг появлялся в нетрезвом виде.
С ним разговаривала мать, слезно молила жена, но Генрих продолжал пить.
С ним говорил отец, убеждал, но все было бесполезно.
- Ты знаешь, папа, а ты был прав, лучше бы я стал врачом, гинекологом, как ты, никто бы не посмел бы со мной так поступить....
- Генрих, ты стал кем захотел и должен достойно вынести испытания уготованные тебе жизнью.
- Папа! Для меня армия - все! Понимаешь - все! Я люблю небо, я не могу жить без него!
- Тебе придется научиться...
Генрих налил себе полный стакан водки, шикнул на вошедшую жену, и выпил залпом, даже не поморщившись.
Его лицо стало злым, глаза налились кровью и он сказал:
- Если бы ты знал папа, как я ненавижу евреев....
- Лучше бы ты действительно стал врачом. -ответил отец и вышел из кухни где они разговаривали.
Больше Генрих никогда не видел отца. Когда он очухался, проспался, умылся, когда убрал целую гору бутылок, нашел записку от жены, в которой она писала, что уезжает к его родителям, забирает с собой детей, и вернется только в одном случае, если Генрих перестанет пить.
- А я то думаю, чего в доме так тихо? - спросил Генрих сам себя и скомкав записку бросил ее в угол комнаты... Надо было идти на службу....
Служба была противной и жизнь шла под откос.
Все последующие годы.
Ранним утром, сквозь сон, Генрих услышал, что дверной звонок надрывается птичьими переливами. Он с трудом встал с кровати, поискал ногами тапочки, но не найдя их, пошел босыми ногами по холодному полу, открывать входную дверь.
- Ну кто там ломится, кого черти принесли?
- Генрих, Генрих, открывай, это я, Леха Смородников. - донеслось из за двери.
Еще не совсем отошедший ото сна майор Гринберг открыл дверь.
- Ну чего тебе надо Леха?
- Генрих, выручай.
- Ничего себе! Выручай! Я водку уже всю выпил, ни хрена дома нет.
- Да я не за этим пришел.
- Ну проходи, разувайся, тапочки найди себе, а то пол холодный. - Генрих открыл дверь на распашку и пошел в залу. Леха Смородников всего около года служил в этом гарнизоне, летал во второй эскадрильи, к тому же был ее штатным замполитом. Летать... Для Генриха это осталось позади и всякий раз, когда самолеты его первой эскадрильи поднимались в воздух, Генрих наливал себе новый стакан и проклинал судьбу. Что ему еще оставалось, кроме, как пить водку и нажимать рычаг катапульты, чтобы летчики проходили тренировки, на случай аварийного катапультирования из самолета...
- Так что у тебя за дело, Леха? - Спросил Генрих, убрав со стола мусор и пустые бутылки... - Видишь, жена ушла, один живу... Ну так чего пришел?
- Дело у меня к тебе, Генрих.
- Не томи, ты так, что за дело?
- Генрих, только никому, я очень прошу, дай слово.
- Ну даю... - Генрих подавил в себе желание отрыгнуть и снова повторил, - даю тебе слово, что случилось-то?
- Слово коммуниста даешь?
- А на кой тебе мое коммунистическое слово?
- Ну так даешь или нет, потому что если ляпнешь где о том, что я тебе скажу, Генрих, приду, порешу тебя...
- Эх брат, Леха, куда тебя занесло, что будешь вербовать для какого-нибудь дела?
- Ну так дашь слово?
- Ладно, бери мое коммунистическое слово весте с партбилетом, только скажи уже, не мучай, что у тебя стряслось.
- Генрих, у меня залет...
- Чего у тебя? - Генрих прищурил бровь.
- Залет говорю, вся моя карьера под откос может пойти.
- И ты пришел ко мне за помощью? Леха, я не знаю как тебе помочь.
- Подожди. не спеши, - говорил Леха Смородников, дай рассказать.... В общем ты же знаешь, что мы с женой ждем второго ребенка.
- Угу.
- И сам понимаешь, сейчас, такой период времени, когда не могу в общем я с женой... того... ну...
- Сексом заниматься. - нагло уточнил Генрих.
- Вот, вот... Но мне то, как мужику хочется, Генрих, если я неделю без секса, то готов изнасиловать все, что движется...
- Дай угадаю, Леха, ты с кем то переспал...
- Да, и не один раз и главное не очень удачно. Прапорщица одна залетела от меня... А представь себе, что если кто-то узнает, об этом, замполит эскадрильи, пример для других летчиков идет на поводу у стоячего хера... Какая потом карьера, какие полеты и откуда звания посыпятся, если будет такой скандал....
- А чем я тебе могу помочь....
- Так ведь, это.... У тебя же отец гинеколог... Может позвонишь ему, приедет моя пассия, аборт там сделает, я с ней уже договорился, правда встанет мне это в кругленькую сумму, аж двести рублей, за аборт и компенсация за молчание.... Так может папа поможет решить мою проблему, я и ему заплачу, главное, чтобы никто ни о чем не узнал....
- Леха, прости, друг, но с папой не общаюсь, я с евреями больше вообще не общаюсь.
- Генрих, я тебя очень прошу, спаси боевого товарища.... Ну позвони...
- Звонить не буду. а вот помочь, за всегда пожалуйста.
- Это как?
- Я сам ей аборт сделаю....
- Ты... Ты охренел?
- Послушай, Смородников, мой папа, чай гинекологом работает, он даже профессор медицины...
- Но ты то, штурман, а не гинеколог!
- Зато у меня есть катапульта!
- Генрих ты я вижу совсем перепил водки.
- Нет, Леха, сколько бы водки я не выпил, а мозги пропить нельзя. Вот сам катапультировался когда нибудь?
- И не раз, правда, слава Господу, только на тренажере.
- Так где находятся твои яйца, когда ты с бешенной скоростью летишь вверх?
- Ну... это....
- Правильно мыслишь, замполит! Твои яйца, как и все твои внутренности не успевают за полетом тела. перегрузка огромная. Так ответь мне, почему у женщины все должно быть иначе. Ее тоже выкинет катапульта, все внутри оборвется, плод естественным образом перестанет жить отделившись от внутренних стенок матки. Начнется кровотечение и спокойно можно констатировать выкидыш. После этого, ты отвезешь свою прапорщицу в больничку, или пускай медики везут, и все тихо спокойно... Никто никакого вопроса не задаст. Выкидыш, мой дорогой Леха, это не аборт....
- Ты сейчас это придумал, на пьяную голову?
- Ага. - Генрих улыбнулся и почесал небритый подбородок. - Только что.
- И ты думаешь это сработает?
- Против законов физики не попрешь.... Ты только свою прапорщицу уговори....
Через два дня, штурман первого класса, штурман - снайпер Генрих Гринберг сделал первый в свой жизни катапультный аборт.
Для Лехи Смородникова он обошелся в двести пятьдесят рублей для залетевшей любовницы, та надбавила сумму за возможный стресс, и пять бутылок водки для "начальника катапульты" Гринберга...
Через три недели Генрих Гринберг понял, что пора менять специализацию. Как с Судьбой не шути, как от нее не увиливай, не делай ей наперекор, все равно, она выведет тебя на ту самую дорогу, по которой должен идти. За три недели, к Генриху обратилось сразу пять женщин, и в качестве оплаты за помощь, в избавлении от нежелательной беременности, каждая предлагала что то свое. Одна принесла водку, другая предложила несколько мешков картошки и разных овощей на зиму, она работала в летной столовой и все эти продукты ей ничего не стоили, а одна девушка, дочь очень строгих родителей, предложила бесплатный минет. Так она все делает за деньги, а Генриху Львовичу - уважаемому человеку, поможет совершенно бесплатно, если конечно, товарищ майор согласится помочь юной деве...
И как тут спрашивается не согласится? Генрих Гринберг жил один, можно сказать холостяком, ну как не помочь девушке в такой тяжелый момент...
В один из дней, Генрих явился в библиотеку в Доме Офицеров и там, а для него, как для читающего, фонд книг был всегда открыт, он перерыл все книги по медицине, но не нашел те, которые ему были нужны. Генрих заранее составил список из, более чем тридцати наименований, но ни одной из разыскиваемых книг по гинекологии в библиотеке не оказалось. Да и что там могло оказаться, когда раздел медицины был меньше чем в половину книжного стеллажа, зато всякая партийная дребедень занимала четверть библиотеки. Список Генрих, составлял по памяти. Он закрывал глаза и вспоминал, как ребенком, перебирал книги в папиных шкафах, он мысленно доставал книгу с полки, читал название, потом записывал его себе на листочек, а после, закрывая глаза, так же, мысленно, бережно ставил на место и брал другую книгу.
В свободный от службы день Генрих поехал в крупный город, находящийся, в каких-то пятидесяти километрах и часть необходимой литературы нашел в библиотеке медицинского университета.
Что, что, а заниматься Генрих умел, он просто заранее составил план - вопросов, на которые хотел получить ответы, и писал, писал, писал.....
И уже дома, разбирая записи, он чувствовал, что у него нет оснований отказывать девушкам и женщинам в решении возникших проблем....
Правда жена Генриха никогда не делала аборты, потому что Генрих всегда пользовался презервативами, и не советскими, а заграничными, попадавши ему через отца. Пару сотен презервативов Генриху хватало на год или более, а как презервативы заканчивались, стоило только позвонить папе....
А вот в единственной гарнизонной аптеке, презервативы были постоянным дефицитом. То ли Светка-кривая, немолодая аптекарша со злым на весь мир лицом, их, презервативы, не заказывала и не привозила, то ли привозила, но в таких малых количествах, что те, кто спрашивал "резиновые штучки" уходили ни с чем...
А Генриха этим добром снабжал папа...
"Папа...." - Генрих вспомнил о нем и поморщился.... - "Папа... Черт с ним! С папой, с женой- предательницей, черт со штурманской работой, с летной и офицерской карьерой, буду заниматься тем, чем могу, Ах этот папа, как же ты оказался прав! Как же я тебя ненавижу! Как же я ненавижу самого себя!!!!! Будь я проклят! Нет, надо выпить и причем срочно!" - Генрих прошел на кухню, открыл бутылку водки, принесенную одной из просительниц и налил себе полный стакан....
После шестого катапультного аборта Генрих даже подумал о том, чтобы написать некое исследование по теме: "Аборт и катапульта". Тему диссертации можно, конечно, и покрасивее обозвать, что нибудь вроде: "Катапультное прерывание беременности" или "Применение летных технологий в гинекологической практике". Что нибудь придумать можно, а главное, материала насобирать для работы проблемы не составляет. Женщины сами приходят, просят, уговаривают, приходят обеспокоенные мужья, предлагают и водку и деньги, лишь бы Генрих Львович помог решить проблему возникшую нежданно - негаданно, потому что пойди женщина и заяви, что беременна, но аборт сделать хочет, так затребуют от нее тысячи справок, свидетельств и доказательств, все выспросят, все запишут, ехидненько при этом улыбаясь и нагло разглядывая... Многим женщинам не так страшно лечь с мужчиной в постель и заняться с ним сексом, как бегать по коридорам и объясняться, почему она решила аборт сделать. А если женщина партийная, так могут и
з каких-то личных мстительных побуждений "абортное дело" и на партсобрание вынести... Да ну его нахер! Лучше заплатить Генриху Львовичу, взлететь на проклятой катапульте и дело с концом. Никто не придерется после. После никто слова не скажет.
Катапультно-абортный кабинет открыл свою работу.
Жизнь для Генриха Гринберга обрела новый смысл. Теперь он был не просто служака, он вообще плюнул на службу, его больше не интересовало небо, полеты, его не интересовали звания и даже зарплата, потому что за месяц работы его катапультно-абортного кабинета он имел денег на много больше, чем ему платило государство. Генрих нагло злоупотреблял своим служебным положением и использовал его в своих, личных целях. Поначалу ему приносили водку, продукты, но потом он начал брать только деньги. Иногда производил катапультный аборт в обмен на какую-то необходимую услугу. То в гараже ворота поменять, то ремонт ему в квартире сделают, то еще что-то, а ему что? Рычаг нажал и кресло понеслось в небо! Да на такой службе он вечно бы работал, не просто до самой пенсии, а до смерти! Одно движение рукой и ты богатый человек!
Пусть папа завидует, пусть лазает в матку женщины зеркалами и щипцами, он, Генрих, делает все на много проще и, главное, имеет больше. Слава абортмахера Гринберга росла, как на дрожжах, скоро к нему начали приезжать из соседних колхозов, готовы были платить натурой и деньгами, лишь бы избавится от нежелательной беременности, потому что впереди посевная, а за ней уборка урожая, а там еще куча причин. К нему приезжали из мелких городков расположенных неподалеку и готовы были сесть в катапультирующееся кресло, лишь бы не иметь дело с официальной медициной...
после девяносто третьего аборта к нему на работу заглянул командир с намерением поговорить, но разговора не получилось. Генрих не стал слушать человека, с которым провел в небе сотни часов.
- А на хрена, командир? Ты можешь вернуть мне прошлое? Я снова буду штурманом? Я прекрасно знаю, на что я способен, и быть штурманом полка не предел для меня.
- Твои родственники...
- Да плевать я на них хотел...
- Но я делал все что мог...
- А мне уже плевать, ты знаешь, командир, очень давно, отец был против моей учебы в военном училище, он был прав, из меня вышел прекрасный абортолог, так можно сказать?
- Не знаю.
- Запиши новое слово, я, значит, его придумал. И не проси меня прекратить мои шахер-махеры, я не остановлюсь.
- Я подам документы на твое увольнение, статью придумаю, как минимум несоответствие занимаемой должности.
- Подавай, ты же знаешь, командир, я не пропаду. Я уже сейчас хорошо живу, буду жить еще лучше....
- Смотри, Генрих, я предупредил, - командир вышел не попрощавшись и впервые не пожал руку своему бывшему штурману.
- Иди, иди, плевал я на вас всех! - Заорал Генрих вслед командиру полка. А ведь когда-то они были дружны. Комполка ни с кем так не общался, как с Генрихом и его семьей. Они вместе ездили на рыбалку, встречали Новый год, отмечали семейные праздники, и вот теперь наступил полный разрыв...
Говорят, что у каждого хорошего врача есть свое большое кладбище. Цинично, но в какой-то степени верно. Гинекологи не исключение, но если врач ошибки в своей практике превращает во благо, то Генрих права на ошибку не имел, Его единственная ошибка, стала бы для него концом.
Двигая рычаг катапульты Генрих старался об этом не думать. Сто двадцатый аборт, сто семьдесят пятый, сто девяностый, а на двести третий произошла трагедия.
Когда кресло вернулась в исходное положение, Генрих увидел, что двадцатипятилетняя девушка приехавшая на аборт из соседнего колхоза - мертва. Шла кровь изо рта, носа, глаз, ушей, внизу, между ее ног растекалась огромная лужа крови. Генрих достаточно долго работал с катапультным аппаратом. чтобы сразу понять, что произошло. Избавиться от трупа он не мог, да и не хотел, там, за пределами его учебного центра, стояла "копейка", где девушку ждал молодой человек. Нужно было что-то решать и Генрих решил. Сняв умершую с кресла, он отнес ее в учебный класс и положил на стол. После, взял тряпки, швабру и начал замывать следы крови, очистил как мог катапультное кресло, привел все помещение в более менее божеский вид а потом набрал номер телефона и когда ему ответили на том конце трубки, просто сказал:
- Командир, я убил человека.
Через пятнадцать минут, командир полка и еще двое доверенных офицеров прибежали в учебный центр, и то в классе нашли два трупа: девушка лежала на столе, а Генрих Гринберг висел на веревке, которая была зацеплена за крюк, на котором раньше крепилась классная доска.
Командующий Флотом нехотя прочитал третий лист донесения, поморщился и уже успокоившись сказал:
- Туда и дорога, жиду этому. Но все равно расследование проведите.
ХХХХХ
Говорят, что вся семья Гринбергов еще до развала СССР уехала в Америку. Старый дед с бабкой, их невестка Елена, и трое внуков. Так же говорят, что внучка Льва Исааковича работает гинекологом где то в Голливуде, а двое внуков работают хирургами в госпитале армии США в Ираке....
Генрих Гринберг в семье - запретная тема для разговоров.

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Мир братьев Шаргородских
http://www.sem40.ru/library/24434/
http://www.sem40.ru/library/24434/

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
В продолжение темы http://www.sem40.ru/library/24467/

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Весна в Одессе
Алекс Гриин
Такой суеты и столько наигранно скорбных лиц, город ещё не знал!
Хоронили одесского ростовщика. Это был как раз тот самый случай, когда при жизни этот богатейший байстрюк был круглый сирота, и вдруг, не успев отдать концы, обзавёлся многочисленной роднёй, которая хищным прайдом, вопрошая, куда же ты от нас так рано?, и не получив ответа, куда он именно,бойко семенила за катафалком.
Чуть позади от внезапно близких покойному шилобреев, шла несметная армия должников, не жалевшая мутных слёз от обуявшей их радостной утраты. Они заполняли не только Преображенскую, но и все примыкающие к ней улочки.
Каждому нужно было лично убедиться в безвременности внезапного избавления от всех долгов. Они печально и понимающе переглядывались друг с другом.
- Ах, какое горе, какое горе. Ещё вторго дня мы с ним... И вот, на тебе!
- А сколько ему было? Всего семьдесят три!
- Надо же! Совсем ещё молодой.
- Ему б ёщё жить и жить...
- А от чего, не знаете?
Причину смерти не знал ни кто!
Даже врач, который делал вскрытие, долго что-то бормотал себе под крючковатый нос, с каплей на кончике, недоумённо разводил в стороны руки, опять бубнил что-то невнятное, в конце концов, грязно выругался, гомко крикнул "Сволочь!" и с яростью написал в заключении - Здоров!
Видимо, покойный почил из вредности, из презрения, так сказать, к окружающим.
Чтож, при его то состоянии, он мог себе позволить подобный фортель.
Непродолжительное время процессия шла молча, но вот шедшие поодаль свиньёй музыканты, сменили боевой порядок и взяли катофалк в плотное каре.
Сёма Кацман бросил раскосый взгляд в толпу, приметил в первых рядах почти всё городское и даже губернское начальство, с видом столичного маэстро поднял руки (в одной скрипка, в другой смычок), набрал в легкие воздуха и ...
Пока группа щипковых и примкнувшие к ним, со своим льстивым пиццикато, смычковики, втихаря пощипывали печальную тему, за всех приходилось отдуваться медной группе.
Струнные же всех мастей, на пару с духовиками, презрительно смотрели на ударные, не без основания считая их бездарями, бездельниками и дармоедами. Те же, понимая свою неполноценность, пристыженно постукивали и побрякивали тем, чтобыло им роздано для проведения мероприятия. Однако, при всём антогонизме, разъедающем коллектив, музыкантам удавалось сохранить тему и размер призведения, чего нельзя было сказать о тембре звучания.
Прощальная тема длилась не долго. Сема ощутив на себе любопытствующие взглядысильных мира сего, решил сразить их наповал широтой репертуара и смелостью импровизации и дерзко увёл исполнителей в глубины еврейских традиционных мелодий в
коих, впрочем, так-же долго задерживаться не собирался.
Лёгкий опереточный пассаж сменил настроение в партере. Многие даже стали слегка пританцовывать, но поймав на себе осуждающие взгляды, моментально принимали скорбный вид.
Вдруг, из подворотни нарисовался залетный и хмельной аккордионист, беспардонно внося диструктив в уже полновесную концертную програму.
Такого диссонанса оркестр стерпеть не смог: в одно мгновение тромбон и альт подскочили к хаму, и в три, максимум шесть ударов ногами востановили статус кво.
После чего был экскурс в молдавско-украинский фолклор, классика также не осталась в стороне - она и явилась логическим возвращением к исходной, печальной теме.
Из нирваны всех вывел кладбищенский сторож, когда объявил, что кладбище скоро закрывается...
Постная речь о достоинствах виновника торжества, и торопливое закидывание его землёй, чуть подпортили общее натроение, но не настолько, чтобы расстраиваться всерьёз.
Расходились уже затемно. На душе была какая-то лёгкость. В весеннем воздухе пахло сиренью, любовью и жареной рыбой.
Алекс Гриин
Такой суеты и столько наигранно скорбных лиц, город ещё не знал!
Хоронили одесского ростовщика. Это был как раз тот самый случай, когда при жизни этот богатейший байстрюк был круглый сирота, и вдруг, не успев отдать концы, обзавёлся многочисленной роднёй, которая хищным прайдом, вопрошая, куда же ты от нас так рано?, и не получив ответа, куда он именно,бойко семенила за катафалком.
Чуть позади от внезапно близких покойному шилобреев, шла несметная армия должников, не жалевшая мутных слёз от обуявшей их радостной утраты. Они заполняли не только Преображенскую, но и все примыкающие к ней улочки.
Каждому нужно было лично убедиться в безвременности внезапного избавления от всех долгов. Они печально и понимающе переглядывались друг с другом.
- Ах, какое горе, какое горе. Ещё вторго дня мы с ним... И вот, на тебе!
- А сколько ему было? Всего семьдесят три!
- Надо же! Совсем ещё молодой.
- Ему б ёщё жить и жить...
- А от чего, не знаете?
Причину смерти не знал ни кто!
Даже врач, который делал вскрытие, долго что-то бормотал себе под крючковатый нос, с каплей на кончике, недоумённо разводил в стороны руки, опять бубнил что-то невнятное, в конце концов, грязно выругался, гомко крикнул "Сволочь!" и с яростью написал в заключении - Здоров!
Видимо, покойный почил из вредности, из презрения, так сказать, к окружающим.
Чтож, при его то состоянии, он мог себе позволить подобный фортель.
Непродолжительное время процессия шла молча, но вот шедшие поодаль свиньёй музыканты, сменили боевой порядок и взяли катофалк в плотное каре.
Сёма Кацман бросил раскосый взгляд в толпу, приметил в первых рядах почти всё городское и даже губернское начальство, с видом столичного маэстро поднял руки (в одной скрипка, в другой смычок), набрал в легкие воздуха и ...
Пока группа щипковых и примкнувшие к ним, со своим льстивым пиццикато, смычковики, втихаря пощипывали печальную тему, за всех приходилось отдуваться медной группе.
Струнные же всех мастей, на пару с духовиками, презрительно смотрели на ударные, не без основания считая их бездарями, бездельниками и дармоедами. Те же, понимая свою неполноценность, пристыженно постукивали и побрякивали тем, чтобыло им роздано для проведения мероприятия. Однако, при всём антогонизме, разъедающем коллектив, музыкантам удавалось сохранить тему и размер призведения, чего нельзя было сказать о тембре звучания.
Прощальная тема длилась не долго. Сема ощутив на себе любопытствующие взглядысильных мира сего, решил сразить их наповал широтой репертуара и смелостью импровизации и дерзко увёл исполнителей в глубины еврейских традиционных мелодий в
коих, впрочем, так-же долго задерживаться не собирался.
Лёгкий опереточный пассаж сменил настроение в партере. Многие даже стали слегка пританцовывать, но поймав на себе осуждающие взгляды, моментально принимали скорбный вид.
Вдруг, из подворотни нарисовался залетный и хмельной аккордионист, беспардонно внося диструктив в уже полновесную концертную програму.
Такого диссонанса оркестр стерпеть не смог: в одно мгновение тромбон и альт подскочили к хаму, и в три, максимум шесть ударов ногами востановили статус кво.
После чего был экскурс в молдавско-украинский фолклор, классика также не осталась в стороне - она и явилась логическим возвращением к исходной, печальной теме.
Из нирваны всех вывел кладбищенский сторож, когда объявил, что кладбище скоро закрывается...
Постная речь о достоинствах виновника торжества, и торопливое закидывание его землёй, чуть подпортили общее натроение, но не настолько, чтобы расстраиваться всерьёз.
Расходились уже затемно. На душе была какая-то лёгкость. В весеннем воздухе пахло сиренью, любовью и жареной рыбой.

Sem.V.- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 88

Страна : Город : г.Акко
Город : г.Акко
Район проживания : Ул. К.Либкнехта, Маяковского, Н.Ивановская, Сестер Сломницких
Место учёбы, работы. : ж/д школа, маштехникум, институт, з-д Прогресс
Дата регистрации : 2008-09-06 Количество сообщений : 666
Репутация : 695
 Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
Re: Что читаешь, Бердичевлянин ?
“И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?»
БЫТИЕ.
Я заслуживаю повешения – впервые я раскрыл Тору в 23 года. И то, если бы не нога и доктор Беркович… Беркович, безусловно, был самым гениальным хирургом на этой земле – он ломал ноги, руки, шеи, ключицы, - все, что можно поломать, - и многие люди по сей день благодарны ему за это.
- Это мой долг, - говорил Беркович, - врач должен помогать людям. И продолжал ломать.
Мне он сломал левую ногу. Правую я просил не трогать. Она у меня толчковая – а в то время я еще частенько прыгал. Это было далеким августом, в солнечный день на Рижском взморье. Отпуск кончался, и мне ужасно не хотелось возвращаться в Ленинград – в сырость, болото. Каждый год где-то за неделю до отъезда с дачи настроение мое портилось, я не хотел туда, - сначала в школу, которую ненавидел, затем в институт, куда поступил не я, а моя национальность – я хотел в Университет, а мою национальность в тот год брали только в Целлюлозно-бумажный. Потом на завод, который выпускал неизвестно что, - скопище грязи, ругани и вони.
Обычно я покорно уезжал, бросив в море медный пятак, но в тот год сосны не отпускали меня. И дюны не отпускали. И море.
- Не уезжай, - шептало море.
- Пошли их к бениной маме, - пели дюны.
- Как?! – спрашивал я, - подскажите.
Но дюны молчали, и я пошел к Зовше.
- А хицин паровоз! – воскликнул Зовша, - не хочешь уезжать – оставайся. Я каждый год отдыхаю три месяца.
- Как? – спросил я.
- Есть Беркович, - ответил Зовша, - давай окунемся и поедем к нему.
Мы взяли на Турайдас такси и помчались со взморья в Ригу. Сосны стояли по обеим сторонам шоссе. Они знали меня с детства.
- Успеха у Берковича, - желали сосны.
Мы подкатили к Травматологическому институту. Беркович был зав.отделением, очередь к нему вилась по трем этажам. Зовша толкнул меня на носилки.
- А ну, подсобите, - бросил он кому-то, и мы прошли без очереди. - Тяжелый случай, - печально объяснил Зовша.
Беркович был высокий, решительный, в революцию он был бы командармом.
- Встаньте, - приказал Беркович и внимательно оглядел меня, - куда не хотите возвращаться?
- В Ленинград, - сказал я.
- М-да, - протянул он, - почему-то в Ленинград особенно не хотят возвращаться. Тут есть над чем подумать ученым. На сколько хотите продлить пляж и море?
- Недельки на две, - ответил я.
- Что вам делать через две недели в Ленинграде? – спросил Беркович. – Грязь, слякоть, но если вы настаиваете... Он задумался. – Две недели – это палец.
- А что, можно больше? – спросил я.
- Медицина сегодня творит чудеса, - ответил Беркович, - я могу до полугода. Можно и больше – но потом надо переходить на инвалидность.
- Нет, нет, только без инвалидности.
- Тогда три месяца, - сказал он, - в ноябре здесь все равно делать нечего – вода холодная, кафе закрыты. Хотите три?
- Я не против, - сказал я.
- Тогда выбирайте: двойной перелом бедра, тройной голени, открытый плеча, раздробление таза.
- Давайте таз трогать не будем. Руку можно?
- Можно, но она тянет на месяц.
- А щиколотку?
- Послушайте, - сказал Беркович, - вы Тору читали?
- Нет, - сознался я.
- За такие вещи еврею надо ломать голову. Ну так вот – согласно Торе Бог дал нам 235 запретов. Столько же в нашем теле костей.
И любую можно сломать. Если вы решили перебрать все, то мы кончим в среду, а у меня очередь. Подойдите-ка сюда, - он подвел меня к скелету, - выбирайте! Кости, окрашенные в красный цвет – три месяца, в зеленый – два, один – в голубой.
Мне почему-то приглянулась левая красная голень.
- Левая так левая, - согласился Беркович и начал накладывать гипс на мою здоровую загорелую ногу…
- И так я буду ходить три месяца? – спросил я.
- К шаббату снимем, - успокоил он, - а пока хромайте, как следует, чтоб видел весь персонал. Держите костыли.
Я скакал минут двадцать, сбивал сестер, повалился на очередь, наступил на главврача.
- Гинук, - сказал Зовша, - не будем переигрывать.
И мы покатили на море.
- Не понимаю, почему ты выбрал ногу, - говорил Зовша, - шея значительно удобней. Я всегда выбираю шею…
Я скакал по пляжу на костылях и был счастлив – в кармане лежал заветный бюллетень.
- В пятницу он мне снимет гипс, - спросил я, - и что потом?
- Технология такая, - ответил Зовша, - после снятия – отдых, загар, морские ванны. В конце третьего месяца Беркович вновь накладывает гипс и снимает его уже перед комиссией. И прощай взморье.
Я стал ждать пятницу. Я сидел на балконе и читал Тору, которую мне дал Зовша.
- Во многой мудрости – много печали, - сказал Зовша, - и умножая знания – мы умножаем скорбь.
- Это к чему? – спросил я.
- Так, - сказал Зовша, - в августе я печален.
Я сидел на балконе, ел чернику с молоком и читал Тору. Тора была с комментариями.
- Каждый еврей, - читал я, - в своей жизни должен выйти из Египта…
Мне вдруг захотелось все бросить и выйти, прямо в гипсе.
- «Я еврей, - подумал я, - мне 23 года и я еще не вышел!»
Нетерпение охватило меня, я не знал, что предпринять. Я налил себе еще один стакан молока с черникой и здесь принесли телеграмму.
Я вообще ненавижу телеграммы. Особенно во время отпуска. Я развернул:
«Срочно явиться доктору Берковичу, среду, 10.00».
Подписи не было.
Я подумал, что Беркович хочет облегчить мою участь и снять гипс чуть раньше, но сейчас я никуда не спешил. Я хотел сидеть и читать Тору.
«- Поеду, как договорились, в пятницу,» - подумал я.
Я читал весь день и всю ночь напролет. На следующее утро под балконом остановился «газик» и из него вышли два мента.
«- За кем бы это?» - подумал я.
Почему человек никогда не думает, что могут приехать за ним?
Меня вывели в тот самый момент, когда Моисей выводил евреев из Египта.
«- Опять я еду не в ту сторону», - подумал я.
Газик трясся по дороге в Ригу.
- Куда мы едем? – спросил я.
- В Палестину, - усмехнулся один, и оба заржали.
Я даже не мог представить, куда меня привезут. Я воображал всё – КГБ, милицию – меня привезли к Берковичу. В его кабинете хромало, скакало, стонало человек десять загипсованных. За столом сидели члены комиссии, от рож которых меня зашатало. Беркович стоял отдельно, командарм без армии, с лицом белым, будто сам себе наложил гипсовую маску.
Встал мордатый, видимо, председатель.
- Переломанные, - прохрипел он, - хромые, косые и прочие! Начинаем сеанс чудодейственного исцеления! – Вся комиссия заржала.
Мордатый взял первую историю болезни.
- Рацбаум Абрам Львович, 33-го года рождения, открытый перелом берцовой кости, - он хихикнул. – Бедная косточка, болит, небось ? А ну-ка, идите сюда, сейчас поможем.
Перепуганный Рацбаум заковылял к столу, хромая на обе ноги.
- Через три минуты заскачешь, как косой, - пообещал мордатый, - давайте-ка взглянем на ноженьку.
Двое членов комиссии взяли инструмент и начали разрезать гипс.
- Теперь скачи, - сказал мордатый.
- Рацбаум подскочил и рухнул на пол.
- Честное признание уменьшает срок, - предупредил мордатый, и Рацбаум заскакал.
- Горный козел, - констатировал мордатый, - вот так чудеса! Берцовая заживает три месяца, а тут – два дня! Доктор Беркович - кудесник!
Мордатый взял следующую историю болезни.
- Рубаненко Оскар Осипович, 29-го года рождения, тройной перелом ключицы, двойной голени, вывих обеих рук! Несчастье какое!
Рубаненко лежал на полу, загипсованный с ног до головы.
- Где это вас так угораздило, родимый?
- В Сигулде, - выдавил Рубаненко, - упал с горы. Умираю.
- Сейчас оживешь, - побещал мордатый, - приступайте, товарищи.
Через пять минут Рубаненко плясал вприсядку.
- Ка-линка, малинка, малинка моя, - прихлопывал мордатый, - чудеса да и только! Поздравляю вас, доктор Беркович, вы творите чудеса, поздравляю от имени латвийской прокуратуры. Кстати, вас хочет поздравить и прокурор.
- Мы знакомы, - сказал Беркович, - я ломал ему позвоночник.
- Заткните пасть, - приказал мордатый.
Берковича увели, а с нас взяли подписки о невыезде.
- Минуточку, - сказал я, - какой может быть выезд в этом гипсе? Кто снимет гипс?!
- Кто накладывал, тот и снимет, - объяснил мордатый.
- Да, но его же забрали.
- Я думаю, лет через пять он вернется, - хохотнул мордатый.
Я подписал «о невыезде» и захромал к выходу…
- Что в этом страшного, - успокаивал Зовша, - ты не хотел уезжать – сейчас ты не уезжаешь на законном основании. Давай попробуем разбить гипс.
Мы были в лесу, и Зовша с силой бил мою ногу о молодую сосну. Гипс не поддавалася.
- Ты мне таки устроишь перелом, - сказал я. – Сколько, по-твоему, мне могут дать?
- Года три, - ответил он, - «подрыв экономической мощи социалистического отечества». Злонамеренный невыход на работу.
- И что же мне делать, Зовша? – запричитал я, - ты же мудрый, ты читал Тору, что мне делать?
- Ша, - остановил Зовша. – Есть Айсурович Был Беркович – есть Айсурович. Давай окунемся и поедем к нему.
- Никто так не сотрясает мозги, как он, - объяснил Зовша в такси, - если хочешь знать, Айсурович – это Беркович мозга.
- Невропатолог? – спросил я.
- Не совсем, - сказал Зовша, - шофер второго консервного завода. Айсурович был грузноват, ел щи, в бороде у него висела капуста. Он внимательно слушал Зовшу.
- Что его может спасти? – повторил Айсурович, - сотрясение мозга его может спасти! Если хотите, я могу вас сбить сегодня, после обеда, угол бульваров Райниса и Падомью.
- Что значит сбить?! – не понял я.
- Вы не хотите под машину? – уточнил Айсурович.
- Нет!
- То есть, вы хотите в тюрьму?
Я молчал.
- Не волнуйтесь, у меня разработанная методика. Я сбиваю без единой царапины. Сбиваемый падает сам, от легкого касания бампером. Поцелуй! Вы что, боитесь бампера?
- Ничего я не боюсь! – огрызнулся я.
- Вы умеете падать плавно? – спросил Айсурович, - вот так, как лебедь, головой под левое колесо.
Он упал. Меня затрясло.
- Лучше пойду в тюрьму, - сказал я.
- Дурачок, - сказал Зовша, - он же специалист по сотрясениям. Он сбивает семь лет – и все безукоризненно. Кто только не лежал под его колесом. И потом – сотрясение мозга – верняк! Его не раскрыть. Мозг хранит свои тайны! Мозг – не нога.
- Ты мне готовишь вторую подписку о невыезде, - сказал я.
- Послушайте, - вмешался Айсурович, - у меня мало времени. У меня основная работа – возить шпроты! И еще я должен сбивать. Это нелегкая халтура… Мы сбиваем или нет?!
- Может быть, завтра, - попросил я, - я должен морально подготовиться.
- Завтра я сбиваю Каца из Киева, - отрезал Айсурович, - потом Ривкин из Брянска, я не могу сбивать несколько раз в день – это требует большого психического напряжения. Если я буду сбивать несколько раз в день – я таки собью! И потом, сегодня «скорая» возит в шестую больницу, а там Зелик. С ним все будет легче. Итак, угол Падомью и Райниса, вечером, в 8 часов, на красный свет. Я буду на грузовичке.
Жена поднесла Айсуровичу кисло-сладкое мясо…
- Ну, главное устроили, - говорил Зовша на набережной, - теперь свидетели. Свидетель должен вызывать доверие.
- Тогда Люсик, - сказал я, - Люсик и Бенечка.
- Я говорю «доверие» - ты говоришь «Люсик»! Какой еврей сегодня вызывает доверие?! Тем более, когда один еврей сбивает другого. Свидетели должны быть людьми коренной национальности. У меня есть двое латышей – Ивар и Янка – отличные ребята, оба сидели, поют в хоре «Саркана Звайзгне», с удовольствием делают все, что идет против нашей любимой советской власти.
- Что в сотрясении антисоветского? – поинтересовался я.
- Вызов прокуратуре, судебным органам, - разъяснил Зовша.
Ивар и Янка дали согласие.
- Лабс! – сказали они, - руки чешутся по настоящему делу.
Мы взяли такси и покатили на взморье.
- Мужайся! – сказал Зовша и обнял меня.
Я вернулся на дачу и вышел на балкон. Желтые листья летали по нему. Ветер с моря переворачивал страницы Торы.
- «Вот завтра меня собьют, - подумал я, - так и не дочитаю Книги, так и не выйду из Египта…»
Мне очень не хотелось лежать в египетской земле. Мрачные мысли окутали меня.
Я спустился и побрел к морю. Песок был холоден, кричали чайки. - Каждый еврей, - повторял я, бродя вдоль моря, - должен выйти из Египта. Каждый еврей…
Я вернулся на дачу, налил себе индийского чаю и до утра наслаждался Торой.
- «Где ты»? – перечитывал я вопрос Бога к Адаму, после того, как тот съел яблочко. И я уже понимал, что это не вопрос географии.
Бог прекрасно знал, где спрятался Адам. Бог спрашивал Адама и спрашивает каждого из нас «Где ты?». Справедливо ли ты живешь? Выполняешь ли предназначение человека на земле – «Где ты?» Адам не ответил прямо на этот вопрос.
О себе я мог сказать совершенно спокойно: - в жопе!
Мало того – через несколько часов мне надо было еще идти под машину Айсуровича.
- Не пойду, - сказал я Зовше, - я хочу выйти из Египта.
- И, умножая знания, мы умножаем скорбь, - вздохнул Зовша, - зачем я тебе дал Тору?.. И потом – как можно выйти, когда ты подписал бумажку о невыезде?
- Я не хочу лежать в египетской земле, - сказал я.
- Что такое?! Ты только на нее упадешь. Айсурович – маэстро своего дела! А! Зачем я тебе дал Тору?!..
Наступил вечер. Я помню его. По небу бежали тучи. Тени в парке были синими. Начинали зажигаться фонари.
Мне не хотелось под машину.
Я боялся - может, Айсурович вместо тормоза нажмет на газ – он был не вполне вменяемый, - может, не рассчитает и меня укокошит. Муторно было у меня на душе.
Свидетели уже были на местах. В новых костюмах, в модных тогда кожаных галстуках.
Я ждал грузовик Айсуровича. Его не было. Начал накрапывать дождь. Становилось неуютно. Свидетели показывали на часы – они были недовольны.
- Где Айсурович? – спросил Янка, - почему он опаздывает?
- Я не знаю, - сказал я.
- Латыши никогда не опаздывают, - заметил Ивар – и евреи раньше не опаздывали – в восемь так в восемь! Вот что с ними сделала советская власть! Тебя должны были уже сбить!
- Я не виноват, - заметил я.
- Мы, латыши, любим пунктуальность – еще десять минут и мы уходим.
- Я вообще-то не тороплюсь, - заметил я.
- Продукт советского воспитания, - сказал Ивар, - если б меня кто-то не сбил в назначенное время – я б тому не подал руки.
Айсуровича все не было и не было. Мы промокли. Зовша ходил кругами и кусал губы.
- Свейки, - сказали латыши и двинулись прочь.
Зовша побежал за ними, что-то кричал о дружбе народов, о тюрьме, о порядочности.
- Мы, латыши – пунктуальны, - сказал Ивар, и они скрылись за углом. И в это время вырулил на вонючем «запорожце» очумелый Айсурович и попер прямо на меня.
- Ша, - остановил его Зовша, - ша, тормози, нечего давить, свидетели сбежали! Где ты был, фарбрен зол сту верен?!
- Не мог достать грузовик, - объяснил Айсурович,- кто-то его спер, будем сбивать этой консервной банкой.
- Варт, - сказал Зовша, - крутись пока здесь, я пойду за свидетелями.
Он побежал звонить в кафе «Луна». Взлохмаченный Айсурович кружил.
Я промок до нитки.
Вскоре прикатили Зямка и Рувик.
- Ничего другого не было, - извинялся Зовша, евреи, в очках, ничего не видят. Как им поверят – не знаю. Но что делать?
Он расставил Зямку с Рувиком по местам и дал сигнал Айсуровичу.
- Будет красный – иди, - крикнул мне Айсурович, - понял?!
Асфальт был мокрым. У меня начался дикий мандраж – я знал, что при дожде тормозной путь увеличивается, попрощался с жизнью и заковылял на своих костылях на красный свет. Я даже закрыл глаза. Я перешел всю улицу – меня никто не сбил.
- Проклятый, не заводится! – слышал я крик Айсуровича, - вонючая машина. Он что было сил стучал по карбюратору. Мотор ожил.
- Давай, роднуля, - крикнул он мне, - только не на зеленый, а то меня в тюрьму упрячут. Вот красный – пошел!
Я опять закрыл глаза и опять заковылял – я не хотел видеть, как меня сбивают. Но меня снова не сбили. Мотор бурчал, но колеса скользили.
- Дождь сранный, - вопил Айсурович и что-то подкладывал под колеса.
Я был насквозь мокрый, костыли скользили, свидетели протирали очки, ни черта не видя.
- Больше не пойду, - сказал я, - все! Везите меня домой!
Зовша уговаривал меня повторить. Айсурович орал и клялся, что сейчас собьет.
Я закрыл глаза и заковылял в третий раз. Вдруг заскрежетали тормоза и сильный удар сбил меня. Я раскрыл глаза – это был не Айсурович, это был говновоз! Айсурович лежал под «запорожцем».
- Подожди, - орал он мне, - не переходи, коленчатый вал заело!
Он ни хрена не видел и не слышал. Свидетели и Зовша были в шоке.
- Меня уже сбило, - успокоил я Айсуровича.
Шофер говновоза выскочил из кабины.
- Мудак, - вопил он, - куда прешь?! Не видишь, что красный, мудило! Кто ходит на красный?!
Я лежал под говновозом, на меня текло и капало.
- А на какой же еще? – спросил я. – Ведь так договаривались.
Шофер обалдел.
- Сколько ненормальных в городе, - кричал он, - и иди из-за них в тюрягу! Вы видели, товарищи, что был красный?
Подбежали Рувик и Зямка и стали свидетельствовать, что меня сбил Айсурович – они ничего не видели.
- Кретины, - шумел Айсурович, - как? У меня ж не завелся мотор!
Шофер говновоза не понимал ничего.
Я лежал под говновозом, гипс, расколотый и разбитый, валялся в стороне.
- Езжайте, - товарищ, - сказал Рувик шоферу, - этого гражданина сбил тот еврей, на «запорожце», мы видели это своими глазами.
Обезумевший шофер забрался в кабину и дал газ.
Рувик с Зямкой аккуратно перенесли меня под машину Айсуровича. Она, видимо, текла – на меня капало масло.
Зовша побежал звонить в «скорую». Прибыла милиция.
- Свидетели есть?
- А как же? – удивились Зямка и Рувик, - мы тут уже больше часа торчим!
Мент подозрительно посмотрел на них.
- Но его сбили только десять минут назад. Что вы здесь делали час?
- Ничего, стоим себе, покуриваем. Вдруг смотрим – чудак какой-то на костылях на красный свет прет. А тут как раз говновоз из темноты вынырнул и…
- Какой говновоз? – строго поинтересовался мент.
- Да этот, - спохватился Рувик, - мы так, простите, «запорожец» называем.
- А-а, - протянул мент.
- Айсурович его сбил! Вылетает, значит, Айсурович на своем говновозе…
- Откуда вы знаете его фамилию?
- А это, как же, - начал заикаться Рувик, - я его сразу схватил, - «как, говорю, твоя фамилия?» - «Айсурович», - отвечает.
- Вы сбили? – спросил мент Айсуровича.
- Так точно, - ответил тот, - но на красный.
- Да, да, на красный, - закричали свидетели.
- Не устраивайте хая, - попросил мент, - вы, мне кажется, гражданин Айсурович, уже сбивали?
- Бывало, - ответил Айсурович, - но на красный.
- Значит, вы – Айсурович. А ваши как фамилии? – мент начал записывать.
- Гершкович, - ответил Рувик.
- Рабинович, - ответил Зямка.
У мента закружилась голова. Он сел на сидение газика.
- А ваша, пострадавший?
- Хаймович, - сказал я.
Менту стало плохо.
Зовша стоял бледный, под фонарем.
- Свидетели должны быть люди коренной национальности, - повторял он сам себе.
Прибыла «скорая». Меня вытащили из-под машины Айсуровича и бросили на носилки.
Я расслабился, отключился, стонал.
- Наверное, сотрясение мозга, - сказал Зовша.
- Вскрытие покажет, - хохотнул санитар.
Зовша залез со мной в машину.
- Близкий друг, - сказал он, - давайте в «шестую».
- Помолчи, еврей, - ответил санитар.
Машина неслась на полной скорости, наконец, остановилась. Когда я открыл глаза – мне стало плохо – это была «первая городская» больница. А Зелик был в «шестой». Это был полный провал операции.
- Сегодня возят в «шестую», - сказал Зовша, - куда вы его привезли?
- Будешь болтать – высажу! – предупредил санитар.
Меня потащили в приемный покой. Но Тора, видимо, уже вела меня.
- Нет мест, - прохрипел заведующий, - везите дальше.
- Как я и говорил, в «Шестую», - заметил Зовша.
Санитар выбросил его из машины.
Мы вновь помчались. На сей раз это была «третья» больница.
- Полно, - сказал врач, - попробуйте в «двенадцатую».
Меня возили из больницы в больницу и нигде не принимали. Если б меня действительно сбили, я б давно умер.
- Куда ж его девать? – ворчали санитары.
- В «шестую», - стонал я с носилок.
- Давай, попробуем, - сказал один, - а вдруг еврей прав?
Мы покатили в «шестую». Зелик был там. Рядом стоял Зовша.
- Возьмете суслика? – безнадежно спросил санитар.
- Оставляйте, - сказал Зелик.
Санитары укатили. Мы закрылись в приемном покое. Зелик был недоволен.
- Кто придумал эту дурацкую катастрофу?! – ворчал он, - кто вам сказал, что с сотрясением мозга у нас не сажают?! У нас сажают даже безмозглых!
- Айсурович, - объяснил Зовша.
- Айсурович зарвался! – сказал Зелик, - он переработался. Айсурович сбивает тех, кто не хочет в армию! Причем здесь вы? Сейчас «время сажать», хотя оно и не указано в Торе. И ничто не спасет от тюрьмы, даже сумасшествие. Ни Наполеоны, ни Чингисханы – ничто не помогает. Симулируй хоть царицу, хоть царя… Вот под Ригой пять Петров Первых сидит, два Ленина, четыре Маркса!
- Так что же мне – прямо в тюрьму? – спросил я.
- Есть выход, - сказал Зелик, - хвалить Израиль. Петь ему хвалу, аллилуйю. Можете сойти за чокнутого, но не перегибайте палку – иначе тюрьма.
Я тут же начал воспевать.
- О, Израиль, - закатывал я глаза, - свет очей моих.
- Меньше театральности, - попросил Зелик, - больше боли!
- Когда я коснусь своими губами земли твоей?!.
- Не стоните! Говорите уверенно, как борец, как узник Сиона.
- Попробую, - сказал я.
- Два дня на репетиции, - сказал Зелик, - я пока подготовлю место в сумасшедшем.
Мы начали репетиции. Я решил, по совету Зовши, симулировать великого еврейского поэта средневековья Иегуду Галеви. Я выкрикивал здравицы Израилю, а Зовша уточнял: это для тюрьмы, это для психушки. То, что для тюрьмы – я исключал.
Перед больницей меня проверил Зелик.
- В вас пропал Томазо Сальвини, - сказал он. – Завтра в девять, в сумасшедшем.
Ночью я не спал. Ветер завывал и ветка сосны стучала в окно.
Я думал о превратностях человеческой судьбы. Все началось так невинно – какой-то гипс. А теперь мне вместо завода предлагалась тюрьма, вместо тюрьмы – психбольница, что дальше?
Я решил бежать в Ленинград. Вызвал такси и помчался к аэропорту. С самолета меня сняли.
- За нарушение подписки о невыезде, - сказал лейтенант, - плюс два года.
- К чему? – не понял я.
- К любому сроку, что получите. Идите и ждите повестки в суд. Мне ничего не оставалось, как ехать в сумасшедший дом.
Меня одели в пижаму болотного цвета и отвели в палату.
Посреди ее в записанной простыне, перекинутой через плечо на манер римской туники, стоял Беркович.
- Император Адриан, - представился он и высоко вскинул руку в римском приветствии, - Публий Элий Адриан! Завтра идем сносить с лица земли Иерусалим! Вы с нами?
- Чем будете сносить? – поинтересовался я.
- Плугом, - ответил император, - камня на камне не оставим. Надо покончить с евреями раз и навсегда!
Врачи, наблюдавшие эту сцену, были довольны. У них прямо слюнки текли.
- Да, да, - согласился я.
- Чтобы забыли название их народа, их страны, их столицы! Иерусалим я назову «Элиа Капитолина», а Иудею – Палестиной! А пока я запретил изучать Тору. Надеюсь, вы не изучаете?
Тут я вспомнил, кто я.
- Изучаю, - бросил я, - я тебе за Тору горло перегрызу, римский пес!
Я бросился на Берковича. Мы схватились и, тяжело дыша, катались по полу. Врачи с удовольствием наблюдали за баталией.
- Иерусалим стоял и стоять будет! – вопил я.
- Плугом снесу! – вопил Беркович.
Мы колотили друг друга кулаками.
- Покушение на императора! – орал он, - эй, стража!
Несколько санитаров дали мне по поджопнику.
- Израиль стоит и стоять будет! – отвечал я, - кто подобен народу твоему, Израиль?! – я боднул Берковича в живот и перешел на Иегуду Галеви:
- «Сион, неужто ты не спросишь о судьбах узников своих?..»
Беркович огрел меня по шее.
- Я запрещу обрезание! – рычал он.
- «…Которых вечно в сердце носишь среди просторов мировых», - закончил я.
Врачи были недовольны.
Своих жидов мало, - ворчали они, - упечь бы тебя, сука, на Колыму, лет на десять.
Первое представление прошло на редкость удачно. Дальше было хуже – императора все обожали, меня ненавидели. Беркович торжественно шествовал по коридорам, высоко вскидывал руку, и врачи всегда отвечали ему таким же приветствием. Когда он приказывал: «Ниц» - некоторые падали. Они как-то понимающе кивали, когда он несколько раз в день призывал снести плугом Иерусалим и снисходительно смотрели, когда Адриан избивал других больных, которые, как ему казалось, делали обрезание и изучали Тору.
Вскоре Берковича выпустили. Уходя, он высоко вскинул руку.
- Патриции, - вскрикнул он, - на месте Иерусалимского Храма я воздвигну свою конную статую!
Врачи зааплодировали. У многих на глазах были слезы.
После ухода императора ко мне стали относиться еще хуже. Иегуда Галеви раздражал здоровый персонал больницы. Особенно его призывы вернуться к Сиону. Когда я начинал:
«Сион, неужто ты не спросишь…» - они просто не могли работать. Однажды они дружно побили меня в гладильной.
Они мурыжили меня месяцев пять, потом выпустили с диагнозом «маниакальный психоз, осложненный иудео-сионистким бредом».
«Дай мне добраться до Хеврона», - завыл я на прощание – «И там, у памятных могил…»
- Уходите, Галеви, - попросил главврач, - а не то я вызову КГБ.
Я вернулся в Ленинград. С завода меня уволили, соседи сторонились, приятели бросили. Я стал рядовой сумасшедший в сумасшедшей стране.
- Ну, неплохо погулял по пляжу? – спрашивал я себя.
Единственное, что спасало меня, была Тора. Я не работал, не учился, не голосовал, не ходил на демонстрации – я изучал Танах.
Он вывел меня из Египта…
Как-то, сидя в кафе на Бен-Иегуда в Иерусалиме, я встретил императора Адриана.
- Приехали сносить Иерусалим? – спросил я, - где плуг?
- В кибуцце, - ответил император, - я работаю за плугом. Кем еще может работать сегодня доктор, прибывший из России?
Помните ваши стихи, Галеви?
Он начал декламировать:
«Дай мне добраться до Хеврона»,
«И там, у памятных могил…»
И что там? Кем вы стали «там»?
- Посудомойкой, - ответил я, - ресторан «У Сруля».
- Неплохо устроились у памятных мест, - протянул «император». – Послушайте, Галеви, а не податься ли нам снова в сумасшедший дом? Я буду кричать «В Израиль, в Израиль, где текут молоко и мед!» Разве не сумасшедший орет сегодня такое? Давайте, Галеви, допьем кофе и пойдем в сумасшедший дом.
- Зачем? – сказал я, - сегодня я могу ответить на вопрос Бога «Где ты?»
Александр и Лев Шаргородские
Sem40.ru
БЫТИЕ.
Я заслуживаю повешения – впервые я раскрыл Тору в 23 года. И то, если бы не нога и доктор Беркович… Беркович, безусловно, был самым гениальным хирургом на этой земле – он ломал ноги, руки, шеи, ключицы, - все, что можно поломать, - и многие люди по сей день благодарны ему за это.
- Это мой долг, - говорил Беркович, - врач должен помогать людям. И продолжал ломать.
Мне он сломал левую ногу. Правую я просил не трогать. Она у меня толчковая – а в то время я еще частенько прыгал. Это было далеким августом, в солнечный день на Рижском взморье. Отпуск кончался, и мне ужасно не хотелось возвращаться в Ленинград – в сырость, болото. Каждый год где-то за неделю до отъезда с дачи настроение мое портилось, я не хотел туда, - сначала в школу, которую ненавидел, затем в институт, куда поступил не я, а моя национальность – я хотел в Университет, а мою национальность в тот год брали только в Целлюлозно-бумажный. Потом на завод, который выпускал неизвестно что, - скопище грязи, ругани и вони.
Обычно я покорно уезжал, бросив в море медный пятак, но в тот год сосны не отпускали меня. И дюны не отпускали. И море.
- Не уезжай, - шептало море.
- Пошли их к бениной маме, - пели дюны.
- Как?! – спрашивал я, - подскажите.
Но дюны молчали, и я пошел к Зовше.
- А хицин паровоз! – воскликнул Зовша, - не хочешь уезжать – оставайся. Я каждый год отдыхаю три месяца.
- Как? – спросил я.
- Есть Беркович, - ответил Зовша, - давай окунемся и поедем к нему.
Мы взяли на Турайдас такси и помчались со взморья в Ригу. Сосны стояли по обеим сторонам шоссе. Они знали меня с детства.
- Успеха у Берковича, - желали сосны.
Мы подкатили к Травматологическому институту. Беркович был зав.отделением, очередь к нему вилась по трем этажам. Зовша толкнул меня на носилки.
- А ну, подсобите, - бросил он кому-то, и мы прошли без очереди. - Тяжелый случай, - печально объяснил Зовша.
Беркович был высокий, решительный, в революцию он был бы командармом.
- Встаньте, - приказал Беркович и внимательно оглядел меня, - куда не хотите возвращаться?
- В Ленинград, - сказал я.
- М-да, - протянул он, - почему-то в Ленинград особенно не хотят возвращаться. Тут есть над чем подумать ученым. На сколько хотите продлить пляж и море?
- Недельки на две, - ответил я.
- Что вам делать через две недели в Ленинграде? – спросил Беркович. – Грязь, слякоть, но если вы настаиваете... Он задумался. – Две недели – это палец.
- А что, можно больше? – спросил я.
- Медицина сегодня творит чудеса, - ответил Беркович, - я могу до полугода. Можно и больше – но потом надо переходить на инвалидность.
- Нет, нет, только без инвалидности.
- Тогда три месяца, - сказал он, - в ноябре здесь все равно делать нечего – вода холодная, кафе закрыты. Хотите три?
- Я не против, - сказал я.
- Тогда выбирайте: двойной перелом бедра, тройной голени, открытый плеча, раздробление таза.
- Давайте таз трогать не будем. Руку можно?
- Можно, но она тянет на месяц.
- А щиколотку?
- Послушайте, - сказал Беркович, - вы Тору читали?
- Нет, - сознался я.
- За такие вещи еврею надо ломать голову. Ну так вот – согласно Торе Бог дал нам 235 запретов. Столько же в нашем теле костей.
И любую можно сломать. Если вы решили перебрать все, то мы кончим в среду, а у меня очередь. Подойдите-ка сюда, - он подвел меня к скелету, - выбирайте! Кости, окрашенные в красный цвет – три месяца, в зеленый – два, один – в голубой.
Мне почему-то приглянулась левая красная голень.
- Левая так левая, - согласился Беркович и начал накладывать гипс на мою здоровую загорелую ногу…
- И так я буду ходить три месяца? – спросил я.
- К шаббату снимем, - успокоил он, - а пока хромайте, как следует, чтоб видел весь персонал. Держите костыли.
Я скакал минут двадцать, сбивал сестер, повалился на очередь, наступил на главврача.
- Гинук, - сказал Зовша, - не будем переигрывать.
И мы покатили на море.
- Не понимаю, почему ты выбрал ногу, - говорил Зовша, - шея значительно удобней. Я всегда выбираю шею…
Я скакал по пляжу на костылях и был счастлив – в кармане лежал заветный бюллетень.
- В пятницу он мне снимет гипс, - спросил я, - и что потом?
- Технология такая, - ответил Зовша, - после снятия – отдых, загар, морские ванны. В конце третьего месяца Беркович вновь накладывает гипс и снимает его уже перед комиссией. И прощай взморье.
Я стал ждать пятницу. Я сидел на балконе и читал Тору, которую мне дал Зовша.
- Во многой мудрости – много печали, - сказал Зовша, - и умножая знания – мы умножаем скорбь.
- Это к чему? – спросил я.
- Так, - сказал Зовша, - в августе я печален.
Я сидел на балконе, ел чернику с молоком и читал Тору. Тора была с комментариями.
- Каждый еврей, - читал я, - в своей жизни должен выйти из Египта…
Мне вдруг захотелось все бросить и выйти, прямо в гипсе.
- «Я еврей, - подумал я, - мне 23 года и я еще не вышел!»
Нетерпение охватило меня, я не знал, что предпринять. Я налил себе еще один стакан молока с черникой и здесь принесли телеграмму.
Я вообще ненавижу телеграммы. Особенно во время отпуска. Я развернул:
«Срочно явиться доктору Берковичу, среду, 10.00».
Подписи не было.
Я подумал, что Беркович хочет облегчить мою участь и снять гипс чуть раньше, но сейчас я никуда не спешил. Я хотел сидеть и читать Тору.
«- Поеду, как договорились, в пятницу,» - подумал я.
Я читал весь день и всю ночь напролет. На следующее утро под балконом остановился «газик» и из него вышли два мента.
«- За кем бы это?» - подумал я.
Почему человек никогда не думает, что могут приехать за ним?
Меня вывели в тот самый момент, когда Моисей выводил евреев из Египта.
«- Опять я еду не в ту сторону», - подумал я.
Газик трясся по дороге в Ригу.
- Куда мы едем? – спросил я.
- В Палестину, - усмехнулся один, и оба заржали.
Я даже не мог представить, куда меня привезут. Я воображал всё – КГБ, милицию – меня привезли к Берковичу. В его кабинете хромало, скакало, стонало человек десять загипсованных. За столом сидели члены комиссии, от рож которых меня зашатало. Беркович стоял отдельно, командарм без армии, с лицом белым, будто сам себе наложил гипсовую маску.
Встал мордатый, видимо, председатель.
- Переломанные, - прохрипел он, - хромые, косые и прочие! Начинаем сеанс чудодейственного исцеления! – Вся комиссия заржала.
Мордатый взял первую историю болезни.
- Рацбаум Абрам Львович, 33-го года рождения, открытый перелом берцовой кости, - он хихикнул. – Бедная косточка, болит, небось ? А ну-ка, идите сюда, сейчас поможем.
Перепуганный Рацбаум заковылял к столу, хромая на обе ноги.
- Через три минуты заскачешь, как косой, - пообещал мордатый, - давайте-ка взглянем на ноженьку.
Двое членов комиссии взяли инструмент и начали разрезать гипс.
- Теперь скачи, - сказал мордатый.
- Рацбаум подскочил и рухнул на пол.
- Честное признание уменьшает срок, - предупредил мордатый, и Рацбаум заскакал.
- Горный козел, - констатировал мордатый, - вот так чудеса! Берцовая заживает три месяца, а тут – два дня! Доктор Беркович - кудесник!
Мордатый взял следующую историю болезни.
- Рубаненко Оскар Осипович, 29-го года рождения, тройной перелом ключицы, двойной голени, вывих обеих рук! Несчастье какое!
Рубаненко лежал на полу, загипсованный с ног до головы.
- Где это вас так угораздило, родимый?
- В Сигулде, - выдавил Рубаненко, - упал с горы. Умираю.
- Сейчас оживешь, - побещал мордатый, - приступайте, товарищи.
Через пять минут Рубаненко плясал вприсядку.
- Ка-линка, малинка, малинка моя, - прихлопывал мордатый, - чудеса да и только! Поздравляю вас, доктор Беркович, вы творите чудеса, поздравляю от имени латвийской прокуратуры. Кстати, вас хочет поздравить и прокурор.
- Мы знакомы, - сказал Беркович, - я ломал ему позвоночник.
- Заткните пасть, - приказал мордатый.
Берковича увели, а с нас взяли подписки о невыезде.
- Минуточку, - сказал я, - какой может быть выезд в этом гипсе? Кто снимет гипс?!
- Кто накладывал, тот и снимет, - объяснил мордатый.
- Да, но его же забрали.
- Я думаю, лет через пять он вернется, - хохотнул мордатый.
Я подписал «о невыезде» и захромал к выходу…
- Что в этом страшного, - успокаивал Зовша, - ты не хотел уезжать – сейчас ты не уезжаешь на законном основании. Давай попробуем разбить гипс.
Мы были в лесу, и Зовша с силой бил мою ногу о молодую сосну. Гипс не поддавалася.
- Ты мне таки устроишь перелом, - сказал я. – Сколько, по-твоему, мне могут дать?
- Года три, - ответил он, - «подрыв экономической мощи социалистического отечества». Злонамеренный невыход на работу.
- И что же мне делать, Зовша? – запричитал я, - ты же мудрый, ты читал Тору, что мне делать?
- Ша, - остановил Зовша. – Есть Айсурович Был Беркович – есть Айсурович. Давай окунемся и поедем к нему.
- Никто так не сотрясает мозги, как он, - объяснил Зовша в такси, - если хочешь знать, Айсурович – это Беркович мозга.
- Невропатолог? – спросил я.
- Не совсем, - сказал Зовша, - шофер второго консервного завода. Айсурович был грузноват, ел щи, в бороде у него висела капуста. Он внимательно слушал Зовшу.
- Что его может спасти? – повторил Айсурович, - сотрясение мозга его может спасти! Если хотите, я могу вас сбить сегодня, после обеда, угол бульваров Райниса и Падомью.
- Что значит сбить?! – не понял я.
- Вы не хотите под машину? – уточнил Айсурович.
- Нет!
- То есть, вы хотите в тюрьму?
Я молчал.
- Не волнуйтесь, у меня разработанная методика. Я сбиваю без единой царапины. Сбиваемый падает сам, от легкого касания бампером. Поцелуй! Вы что, боитесь бампера?
- Ничего я не боюсь! – огрызнулся я.
- Вы умеете падать плавно? – спросил Айсурович, - вот так, как лебедь, головой под левое колесо.
Он упал. Меня затрясло.
- Лучше пойду в тюрьму, - сказал я.
- Дурачок, - сказал Зовша, - он же специалист по сотрясениям. Он сбивает семь лет – и все безукоризненно. Кто только не лежал под его колесом. И потом – сотрясение мозга – верняк! Его не раскрыть. Мозг хранит свои тайны! Мозг – не нога.
- Ты мне готовишь вторую подписку о невыезде, - сказал я.
- Послушайте, - вмешался Айсурович, - у меня мало времени. У меня основная работа – возить шпроты! И еще я должен сбивать. Это нелегкая халтура… Мы сбиваем или нет?!
- Может быть, завтра, - попросил я, - я должен морально подготовиться.
- Завтра я сбиваю Каца из Киева, - отрезал Айсурович, - потом Ривкин из Брянска, я не могу сбивать несколько раз в день – это требует большого психического напряжения. Если я буду сбивать несколько раз в день – я таки собью! И потом, сегодня «скорая» возит в шестую больницу, а там Зелик. С ним все будет легче. Итак, угол Падомью и Райниса, вечером, в 8 часов, на красный свет. Я буду на грузовичке.
Жена поднесла Айсуровичу кисло-сладкое мясо…
- Ну, главное устроили, - говорил Зовша на набережной, - теперь свидетели. Свидетель должен вызывать доверие.
- Тогда Люсик, - сказал я, - Люсик и Бенечка.
- Я говорю «доверие» - ты говоришь «Люсик»! Какой еврей сегодня вызывает доверие?! Тем более, когда один еврей сбивает другого. Свидетели должны быть людьми коренной национальности. У меня есть двое латышей – Ивар и Янка – отличные ребята, оба сидели, поют в хоре «Саркана Звайзгне», с удовольствием делают все, что идет против нашей любимой советской власти.
- Что в сотрясении антисоветского? – поинтересовался я.
- Вызов прокуратуре, судебным органам, - разъяснил Зовша.
Ивар и Янка дали согласие.
- Лабс! – сказали они, - руки чешутся по настоящему делу.
Мы взяли такси и покатили на взморье.
- Мужайся! – сказал Зовша и обнял меня.
Я вернулся на дачу и вышел на балкон. Желтые листья летали по нему. Ветер с моря переворачивал страницы Торы.
- «Вот завтра меня собьют, - подумал я, - так и не дочитаю Книги, так и не выйду из Египта…»
Мне очень не хотелось лежать в египетской земле. Мрачные мысли окутали меня.
Я спустился и побрел к морю. Песок был холоден, кричали чайки. - Каждый еврей, - повторял я, бродя вдоль моря, - должен выйти из Египта. Каждый еврей…
Я вернулся на дачу, налил себе индийского чаю и до утра наслаждался Торой.
- «Где ты»? – перечитывал я вопрос Бога к Адаму, после того, как тот съел яблочко. И я уже понимал, что это не вопрос географии.
Бог прекрасно знал, где спрятался Адам. Бог спрашивал Адама и спрашивает каждого из нас «Где ты?». Справедливо ли ты живешь? Выполняешь ли предназначение человека на земле – «Где ты?» Адам не ответил прямо на этот вопрос.
О себе я мог сказать совершенно спокойно: - в жопе!
Мало того – через несколько часов мне надо было еще идти под машину Айсуровича.
- Не пойду, - сказал я Зовше, - я хочу выйти из Египта.
- И, умножая знания, мы умножаем скорбь, - вздохнул Зовша, - зачем я тебе дал Тору?.. И потом – как можно выйти, когда ты подписал бумажку о невыезде?
- Я не хочу лежать в египетской земле, - сказал я.
- Что такое?! Ты только на нее упадешь. Айсурович – маэстро своего дела! А! Зачем я тебе дал Тору?!..
Наступил вечер. Я помню его. По небу бежали тучи. Тени в парке были синими. Начинали зажигаться фонари.
Мне не хотелось под машину.
Я боялся - может, Айсурович вместо тормоза нажмет на газ – он был не вполне вменяемый, - может, не рассчитает и меня укокошит. Муторно было у меня на душе.
Свидетели уже были на местах. В новых костюмах, в модных тогда кожаных галстуках.
Я ждал грузовик Айсуровича. Его не было. Начал накрапывать дождь. Становилось неуютно. Свидетели показывали на часы – они были недовольны.
- Где Айсурович? – спросил Янка, - почему он опаздывает?
- Я не знаю, - сказал я.
- Латыши никогда не опаздывают, - заметил Ивар – и евреи раньше не опаздывали – в восемь так в восемь! Вот что с ними сделала советская власть! Тебя должны были уже сбить!
- Я не виноват, - заметил я.
- Мы, латыши, любим пунктуальность – еще десять минут и мы уходим.
- Я вообще-то не тороплюсь, - заметил я.
- Продукт советского воспитания, - сказал Ивар, - если б меня кто-то не сбил в назначенное время – я б тому не подал руки.
Айсуровича все не было и не было. Мы промокли. Зовша ходил кругами и кусал губы.
- Свейки, - сказали латыши и двинулись прочь.
Зовша побежал за ними, что-то кричал о дружбе народов, о тюрьме, о порядочности.
- Мы, латыши – пунктуальны, - сказал Ивар, и они скрылись за углом. И в это время вырулил на вонючем «запорожце» очумелый Айсурович и попер прямо на меня.
- Ша, - остановил его Зовша, - ша, тормози, нечего давить, свидетели сбежали! Где ты был, фарбрен зол сту верен?!
- Не мог достать грузовик, - объяснил Айсурович,- кто-то его спер, будем сбивать этой консервной банкой.
- Варт, - сказал Зовша, - крутись пока здесь, я пойду за свидетелями.
Он побежал звонить в кафе «Луна». Взлохмаченный Айсурович кружил.
Я промок до нитки.
Вскоре прикатили Зямка и Рувик.
- Ничего другого не было, - извинялся Зовша, евреи, в очках, ничего не видят. Как им поверят – не знаю. Но что делать?
Он расставил Зямку с Рувиком по местам и дал сигнал Айсуровичу.
- Будет красный – иди, - крикнул мне Айсурович, - понял?!
Асфальт был мокрым. У меня начался дикий мандраж – я знал, что при дожде тормозной путь увеличивается, попрощался с жизнью и заковылял на своих костылях на красный свет. Я даже закрыл глаза. Я перешел всю улицу – меня никто не сбил.
- Проклятый, не заводится! – слышал я крик Айсуровича, - вонючая машина. Он что было сил стучал по карбюратору. Мотор ожил.
- Давай, роднуля, - крикнул он мне, - только не на зеленый, а то меня в тюрьму упрячут. Вот красный – пошел!
Я опять закрыл глаза и опять заковылял – я не хотел видеть, как меня сбивают. Но меня снова не сбили. Мотор бурчал, но колеса скользили.
- Дождь сранный, - вопил Айсурович и что-то подкладывал под колеса.
Я был насквозь мокрый, костыли скользили, свидетели протирали очки, ни черта не видя.
- Больше не пойду, - сказал я, - все! Везите меня домой!
Зовша уговаривал меня повторить. Айсурович орал и клялся, что сейчас собьет.
Я закрыл глаза и заковылял в третий раз. Вдруг заскрежетали тормоза и сильный удар сбил меня. Я раскрыл глаза – это был не Айсурович, это был говновоз! Айсурович лежал под «запорожцем».
- Подожди, - орал он мне, - не переходи, коленчатый вал заело!
Он ни хрена не видел и не слышал. Свидетели и Зовша были в шоке.
- Меня уже сбило, - успокоил я Айсуровича.
Шофер говновоза выскочил из кабины.
- Мудак, - вопил он, - куда прешь?! Не видишь, что красный, мудило! Кто ходит на красный?!
Я лежал под говновозом, на меня текло и капало.
- А на какой же еще? – спросил я. – Ведь так договаривались.
Шофер обалдел.
- Сколько ненормальных в городе, - кричал он, - и иди из-за них в тюрягу! Вы видели, товарищи, что был красный?
Подбежали Рувик и Зямка и стали свидетельствовать, что меня сбил Айсурович – они ничего не видели.
- Кретины, - шумел Айсурович, - как? У меня ж не завелся мотор!
Шофер говновоза не понимал ничего.
Я лежал под говновозом, гипс, расколотый и разбитый, валялся в стороне.
- Езжайте, - товарищ, - сказал Рувик шоферу, - этого гражданина сбил тот еврей, на «запорожце», мы видели это своими глазами.
Обезумевший шофер забрался в кабину и дал газ.
Рувик с Зямкой аккуратно перенесли меня под машину Айсуровича. Она, видимо, текла – на меня капало масло.
Зовша побежал звонить в «скорую». Прибыла милиция.
- Свидетели есть?
- А как же? – удивились Зямка и Рувик, - мы тут уже больше часа торчим!
Мент подозрительно посмотрел на них.
- Но его сбили только десять минут назад. Что вы здесь делали час?
- Ничего, стоим себе, покуриваем. Вдруг смотрим – чудак какой-то на костылях на красный свет прет. А тут как раз говновоз из темноты вынырнул и…
- Какой говновоз? – строго поинтересовался мент.
- Да этот, - спохватился Рувик, - мы так, простите, «запорожец» называем.
- А-а, - протянул мент.
- Айсурович его сбил! Вылетает, значит, Айсурович на своем говновозе…
- Откуда вы знаете его фамилию?
- А это, как же, - начал заикаться Рувик, - я его сразу схватил, - «как, говорю, твоя фамилия?» - «Айсурович», - отвечает.
- Вы сбили? – спросил мент Айсуровича.
- Так точно, - ответил тот, - но на красный.
- Да, да, на красный, - закричали свидетели.
- Не устраивайте хая, - попросил мент, - вы, мне кажется, гражданин Айсурович, уже сбивали?
- Бывало, - ответил Айсурович, - но на красный.
- Значит, вы – Айсурович. А ваши как фамилии? – мент начал записывать.
- Гершкович, - ответил Рувик.
- Рабинович, - ответил Зямка.
У мента закружилась голова. Он сел на сидение газика.
- А ваша, пострадавший?
- Хаймович, - сказал я.
Менту стало плохо.
Зовша стоял бледный, под фонарем.
- Свидетели должны быть люди коренной национальности, - повторял он сам себе.
Прибыла «скорая». Меня вытащили из-под машины Айсуровича и бросили на носилки.
Я расслабился, отключился, стонал.
- Наверное, сотрясение мозга, - сказал Зовша.
- Вскрытие покажет, - хохотнул санитар.
Зовша залез со мной в машину.
- Близкий друг, - сказал он, - давайте в «шестую».
- Помолчи, еврей, - ответил санитар.
Машина неслась на полной скорости, наконец, остановилась. Когда я открыл глаза – мне стало плохо – это была «первая городская» больница. А Зелик был в «шестой». Это был полный провал операции.
- Сегодня возят в «шестую», - сказал Зовша, - куда вы его привезли?
- Будешь болтать – высажу! – предупредил санитар.
Меня потащили в приемный покой. Но Тора, видимо, уже вела меня.
- Нет мест, - прохрипел заведующий, - везите дальше.
- Как я и говорил, в «Шестую», - заметил Зовша.
Санитар выбросил его из машины.
Мы вновь помчались. На сей раз это была «третья» больница.
- Полно, - сказал врач, - попробуйте в «двенадцатую».
Меня возили из больницы в больницу и нигде не принимали. Если б меня действительно сбили, я б давно умер.
- Куда ж его девать? – ворчали санитары.
- В «шестую», - стонал я с носилок.
- Давай, попробуем, - сказал один, - а вдруг еврей прав?
Мы покатили в «шестую». Зелик был там. Рядом стоял Зовша.
- Возьмете суслика? – безнадежно спросил санитар.
- Оставляйте, - сказал Зелик.
Санитары укатили. Мы закрылись в приемном покое. Зелик был недоволен.
- Кто придумал эту дурацкую катастрофу?! – ворчал он, - кто вам сказал, что с сотрясением мозга у нас не сажают?! У нас сажают даже безмозглых!
- Айсурович, - объяснил Зовша.
- Айсурович зарвался! – сказал Зелик, - он переработался. Айсурович сбивает тех, кто не хочет в армию! Причем здесь вы? Сейчас «время сажать», хотя оно и не указано в Торе. И ничто не спасет от тюрьмы, даже сумасшествие. Ни Наполеоны, ни Чингисханы – ничто не помогает. Симулируй хоть царицу, хоть царя… Вот под Ригой пять Петров Первых сидит, два Ленина, четыре Маркса!
- Так что же мне – прямо в тюрьму? – спросил я.
- Есть выход, - сказал Зелик, - хвалить Израиль. Петь ему хвалу, аллилуйю. Можете сойти за чокнутого, но не перегибайте палку – иначе тюрьма.
Я тут же начал воспевать.
- О, Израиль, - закатывал я глаза, - свет очей моих.
- Меньше театральности, - попросил Зелик, - больше боли!
- Когда я коснусь своими губами земли твоей?!.
- Не стоните! Говорите уверенно, как борец, как узник Сиона.
- Попробую, - сказал я.
- Два дня на репетиции, - сказал Зелик, - я пока подготовлю место в сумасшедшем.
Мы начали репетиции. Я решил, по совету Зовши, симулировать великого еврейского поэта средневековья Иегуду Галеви. Я выкрикивал здравицы Израилю, а Зовша уточнял: это для тюрьмы, это для психушки. То, что для тюрьмы – я исключал.
Перед больницей меня проверил Зелик.
- В вас пропал Томазо Сальвини, - сказал он. – Завтра в девять, в сумасшедшем.
Ночью я не спал. Ветер завывал и ветка сосны стучала в окно.
Я думал о превратностях человеческой судьбы. Все началось так невинно – какой-то гипс. А теперь мне вместо завода предлагалась тюрьма, вместо тюрьмы – психбольница, что дальше?
Я решил бежать в Ленинград. Вызвал такси и помчался к аэропорту. С самолета меня сняли.
- За нарушение подписки о невыезде, - сказал лейтенант, - плюс два года.
- К чему? – не понял я.
- К любому сроку, что получите. Идите и ждите повестки в суд. Мне ничего не оставалось, как ехать в сумасшедший дом.
Меня одели в пижаму болотного цвета и отвели в палату.
Посреди ее в записанной простыне, перекинутой через плечо на манер римской туники, стоял Беркович.
- Император Адриан, - представился он и высоко вскинул руку в римском приветствии, - Публий Элий Адриан! Завтра идем сносить с лица земли Иерусалим! Вы с нами?
- Чем будете сносить? – поинтересовался я.
- Плугом, - ответил император, - камня на камне не оставим. Надо покончить с евреями раз и навсегда!
Врачи, наблюдавшие эту сцену, были довольны. У них прямо слюнки текли.
- Да, да, - согласился я.
- Чтобы забыли название их народа, их страны, их столицы! Иерусалим я назову «Элиа Капитолина», а Иудею – Палестиной! А пока я запретил изучать Тору. Надеюсь, вы не изучаете?
Тут я вспомнил, кто я.
- Изучаю, - бросил я, - я тебе за Тору горло перегрызу, римский пес!
Я бросился на Берковича. Мы схватились и, тяжело дыша, катались по полу. Врачи с удовольствием наблюдали за баталией.
- Иерусалим стоял и стоять будет! – вопил я.
- Плугом снесу! – вопил Беркович.
Мы колотили друг друга кулаками.
- Покушение на императора! – орал он, - эй, стража!
Несколько санитаров дали мне по поджопнику.
- Израиль стоит и стоять будет! – отвечал я, - кто подобен народу твоему, Израиль?! – я боднул Берковича в живот и перешел на Иегуду Галеви:
- «Сион, неужто ты не спросишь о судьбах узников своих?..»
Беркович огрел меня по шее.
- Я запрещу обрезание! – рычал он.
- «…Которых вечно в сердце носишь среди просторов мировых», - закончил я.
Врачи были недовольны.
Своих жидов мало, - ворчали они, - упечь бы тебя, сука, на Колыму, лет на десять.
Первое представление прошло на редкость удачно. Дальше было хуже – императора все обожали, меня ненавидели. Беркович торжественно шествовал по коридорам, высоко вскидывал руку, и врачи всегда отвечали ему таким же приветствием. Когда он приказывал: «Ниц» - некоторые падали. Они как-то понимающе кивали, когда он несколько раз в день призывал снести плугом Иерусалим и снисходительно смотрели, когда Адриан избивал других больных, которые, как ему казалось, делали обрезание и изучали Тору.
Вскоре Берковича выпустили. Уходя, он высоко вскинул руку.
- Патриции, - вскрикнул он, - на месте Иерусалимского Храма я воздвигну свою конную статую!
Врачи зааплодировали. У многих на глазах были слезы.
После ухода императора ко мне стали относиться еще хуже. Иегуда Галеви раздражал здоровый персонал больницы. Особенно его призывы вернуться к Сиону. Когда я начинал:
«Сион, неужто ты не спросишь…» - они просто не могли работать. Однажды они дружно побили меня в гладильной.
Они мурыжили меня месяцев пять, потом выпустили с диагнозом «маниакальный психоз, осложненный иудео-сионистким бредом».
«Дай мне добраться до Хеврона», - завыл я на прощание – «И там, у памятных могил…»
- Уходите, Галеви, - попросил главврач, - а не то я вызову КГБ.
Я вернулся в Ленинград. С завода меня уволили, соседи сторонились, приятели бросили. Я стал рядовой сумасшедший в сумасшедшей стране.
- Ну, неплохо погулял по пляжу? – спрашивал я себя.
Единственное, что спасало меня, была Тора. Я не работал, не учился, не голосовал, не ходил на демонстрации – я изучал Танах.
Он вывел меня из Египта…
Как-то, сидя в кафе на Бен-Иегуда в Иерусалиме, я встретил императора Адриана.
- Приехали сносить Иерусалим? – спросил я, - где плуг?
- В кибуцце, - ответил император, - я работаю за плугом. Кем еще может работать сегодня доктор, прибывший из России?
Помните ваши стихи, Галеви?
Он начал декламировать:
«Дай мне добраться до Хеврона»,
«И там, у памятных могил…»
И что там? Кем вы стали «там»?
- Посудомойкой, - ответил я, - ресторан «У Сруля».
- Неплохо устроились у памятных мест, - протянул «император». – Послушайте, Галеви, а не податься ли нам снова в сумасшедший дом? Я буду кричать «В Израиль, в Израиль, где текут молоко и мед!» Разве не сумасшедший орет сегодня такое? Давайте, Галеви, допьем кофе и пойдем в сумасшедший дом.
- Зачем? – сказал я, - сегодня я могу ответить на вопрос Бога «Где ты?»
Александр и Лев Шаргородские
Sem40.ru

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
Страница 1 из 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Страница 1 из 10
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
 Форум
Форум
» Мои воспоминания
» Ответы на непростой вопрос...
» Универсальный ответ
» Каких иногда выпускали инженеров.
» Спаситель еврейских детей
» Рондель Еля Шаєвич (Ізя-газировщик)
» О б ь я в л е н и е !
» И вдруг алкоголь подействовал!..
» Давно он так над собой не смеялся!
» Последователи и потомки Авраама
» Холокост - трагедия европейских евреев
» Выдающиеся люди
» Израиль и Израильтяне
» Глянь, кто идёт!