Последние темы
Вход
Поиск
Навигация
ПРАВИЛА ФОРУМА---------------
ИСТОРИЯ БЕРДИЧЕВА
КНИГА ОТЗЫВОВ
ПОИСК ЛЮДЕЙ
ВСЁ О БЕРДИЧЕВЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ПРОФИЛЬ
ВОПРОСЫ
Реклама
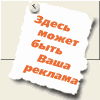
Социальные закладки



Поместите адрес форума БЕРДИЧЕВЛЯНЕ ЗА РУБЕЖОМ на вашем сайте социальных закладок (social bookmarking)
Поэтические и музыкальные встречи
+4
Kim
@AlexF
Beni
Borys
Участников: 8
Страница 1 из 4
Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4 
 Поэтические и музыкальные встречи
Поэтические и музыкальные встречи
В гостях у Камбуровой
http://video.yandex.ru/users/woodyalex/view/323/
http://video.yandex.ru/users/woodyalex/view/323/

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Как много тех, с кем можно лечь в постель,
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
И утром, расставаясь улыбнуться,
И помахать рукой, и улыбнуться,
И целый день, волнуясь, ждать вестей.
Как много тех, с кем можно просто жить,
Пить утром кофе, говорить и спорить...
С кем можно ездить отдыхать на море,
И, как положено - и в радости, и в горе -
Быть рядом... Но при этом не любить...
Как мало тех, с кем хочется мечтать!
Смотреть, как облака роятся в небе,
Писать слова любви на первом снеге,
И думать лишь об этом человеке...
И счастья большего не знать и не желать
.
Как мало тех, с кем можно помолчать,
Кто понимает с полуслова, с полу взгляда,
Кому не жалко год за годом отдавать,
И за кого ты сможешь, как награду,
Любую боль, любую казнь принять...
Вот так и вьётся эта канитель -
Легко встречаются, без боли расстаются...
Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель.
Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться.

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
КВН-2007, Юрмала

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
О нас, Бердичевлянах...

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Это стихотворение написано Булатом Окуджавой в Израиле в 1993 году в гостях у Ларисы Герштейн.
Исполнено в тот же день вечером на концерте Б.Окуджавы в Иерусалиме на русском и на иврите. Музыку написала Лариса Герштейн.
Герштейн Лариса Иосифовна (р. 1948), родилась в Киргизии - общественный и политический деятель Израиля (была вице-мэром Иерусалима), автор и исполнитель авторских песен, друг Б. Окуджавы. Ею записан альбом песен Булата Окуджавы в двух дисках на русском и на иврите "Две дороги", а также диск "Кончилось лето" с песнями В. Высоцкого, А. Галича и израильских авторов.
- Какой сюрприз! - приветствовала меня Лариса на пороге своего дома и, не дожидаясь ответа, потащила на кухню. Ту самую. Легендарную. На этой грубой скамейке - за небольшим продолговатым столом - сиживали все диссиденты, которым (подобно мужу Ларисы - Эдуарду Кузнецову) чудом удалось выжить в ГУЛаге и вырваться на волю из-под "железного
занавеса"; распивали здесь чаи Ариэль Шарон, Дан Меридор, Биньямин Нетаниягу, великий русский писатель Владимир Войнович, Эхуд Барак...
Но главное - много часов провел здесь за душевными беседами Булат Шалвович Окуджава. Здесь - на этой кухне и за этим столом - родилась его песня:
Сладкое время, глядишь, обернется копейкою:
Кровью и порохом тянет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою
Юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.
Как ты стоишь! Как рукою приклада касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мной возникли, хозяюшка,
Те фронтовые, иные, мои времена.
Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
Что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!
С Окуджавой Лариса познакомилась в 1981 году. В Израиле у нее тогда вышла пластинка. Она была второй по счету, но практически то была первая запись песен Окуджавы вне России. Песен было 15. С этим диском - на его премьеру - Герштейн отправилась в Париж. Во втором отделении концерта (впоследствии Лариса назвала его судьбоносным) израильская певица по привычке бросила в зал: "Может быть, кто-то хочет что-то услышать?" Встал Булат Окуджава, который, оказывается, сидел в заднем ряду, о чем Лариса даже не подозревала, и попросил: "Спойте меня на иврите..."
Лариса спела "Молитву" и "Ночной разговор". - "Молитвой" Окуджава был, безусловно, потрясен: на иврите эта песня превращается истинно в молитву, без всяких оговорок... - вспоминала потом Лариса. Спустя много лет, выступая в Москве на Первом международном фестивале памяти Булата Окуджавы, Герштейн вышла на сцену Театра имени Вахтангова - и неожиданно для себя произнесла: "А сейчас я вам спою "Молитву" Окуджавы на родном языке Господа Бога"... Разъяснения не потребовались - зал понял.
https://www.youtube.com/watch?v=H53xPF4Ha2Q&feature=related
Усевшись у старого, знакомого мне с начала 90-х стола, терпеливо жду, когда же Лариса расчехлит гитару. Но и Герштейн - мастер сюрпризов: вместо гитары притащила проигрыватель. - Вот, слушай!
Обида на судьбу бывает безутешна.
За что карает нас ее слепая плеть?
Не покидай меня, волшебница-надежда!
Я спел еще не все. Я должен уцелеть.
Слушаю - и мороз по коже.
- Лара, хоть это и не Окуджава - но какая сила!.
- Не отвлекайся. Слушай!
Подпирая щеку рукой,
От житейских устав невзгод,
Я на снимок гляжу с тоской,
А на снимке Двадцатый год.
Над местечком клубится пыль,
Облетает вишневый цвет.
Мою маму зовут Рахиль,
Моей маме двенадцать лет.
Под зеленым ковром травы
Моя мама теперь лежит.
Ей защитой не стал, увы,
Ненадежный Давидов щит.
И кого из своих родных
Ненароком ни назову, -
Кто стареет в краях иных,
Кто убитый лежит во рву.
Завершая урочный бег,
Солнце плавится за горой.
Двадцать первый тревожный век
Завершает свой год второй.
Выгорает седой ковыль,
Старый город во мглу одет.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
Погрузившийся во мглу Старый город - центр еврейского мироздания - высится неподалеку, в получасе езды от Моцы.
- Такое ощущение, будто эту песню Александр Городницкий писал не в далеком российском далеке, а здесь - в Иерусалиме, - замечаю я. - Просто здесь внучку еврейского поэта наверняка бы звали Рахель...
- Ее и зовут Рахель, - подтверждает Лариса, - в ивритской версии. Вот, послушай...И правда, Рахиль, заживо сгоревшая в огне Холокоста с обитателями родного "штейтл", в новой своей инкарнации вернулась на Святую землю 12-летней Рахелью. Но говорит она уже не на идише и не по-русски, мыслит - на иврите. А значит - другими категориями. Потому что здесь, в Иерусалимских горах, и сейчас - в двадцать первом веке - расстояние между жизнью и смертью парадоксальным образом сократилось до минимума. Сегодня ты есть - а завтра грянула новая интифада. И чем ты слабее и сговорчивее - тем сильнее будет удар. Потому что бьют - слабых. Сильных - боятся.
В своей ивритской инкарнации песни российских бардов получили новую жизнь. "Мы похоронены где-то под Нарвой?" А может все-таки - на военном кладбище в Иерусалиме? "По Смоленской дороге"? А может - по дороге в Бейт-Лехем? И все эти мистические переплетения еврейской судьбы с нашими личными судьбами цементирует Вечный, как наша история, город: "Над небом голубым есть город золотой"...
Слушаешь - и все твое существо охватывает волнение, будто каждая из этих песен была выношена и написана здесь - на обильно политой кровью, израненной, изуродованной террором исконно еврейской земле.
- Исполнишь "Рахиль" (или - "Рахель"?) на фестивале Булата Окуджавы?
- Понятия не имею... Ты ведь знаешь, я человек спонтанный: все зависит от аудитории.
О Шестом международном фестивале Окуджавы, который начнется 12 октября концертом в Беэр-Шеве, написано, казалось бы, немало, но его "изобретатель" и душа - Лариса Герштейн в текстах почти не упоминается, хотя через два месяца после смерти Поэта в Париже именно ее и осенила идея увековечения памяти Булата Шалвовича всепланетным творчеством. Сказано - сделано: первый фестиваль Окуджавы состоялся еще через месяц.Родилась традиция. Впоследствии в программах появились молодые исполнители, которые совершенно не обязательно пели поэзию Окуджавы. Исполняли собственные произведения, навеянные уникальной образной системой Булата Шалвовича. Обращались, как он, - к Богу.
Неспешно с Ним беседовали - божественная аура Иерусалима к тому предрасполагает. Получали премии. Обретали известность...
Дважды почетным гостем прошедших в Израиле фестивалей Окуджавы был писатель Владимир Войнович. Приезжал Фазиль Искандер. Пели Александр Градский, Татьяна и Сергей Никитины... Всех не упомнить...
- В каком ключе пройдет фестиваль в этом году?
- Женька, мы же договорились: никаких расспросов! - возражает Лариса, но, не выдержав, "раскалывается": - Знаешь, кто будет вести концерты (а они состоятся в Иерусалиме, Тель-Авиве, Ашкелоне, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине)? Вениамин Смехов! Невероятно одаренный актер, литератор, историк.
- Приедут ли российские исполнители?- Конечно! Без них фестиваль Окуджавы выглядел бы неестественно. Выступят братья Вадим и Валерий Мищуки. Для "равновесия" я пригласила Ефима и Якова Шапиро - тоже братьев, но - израильтян. Споет Алона Бренер. Широкой публике она известна как ведущая передач радио РЭКА, хотя на самом деле она - потрясающая певица с великолепной оперной школой, неподражаемо исполняет авторскую песню и романсы... Выступит израильский бард Марина Меламед, польская певица и переводчик Анета Ластик, ныне живущая во Франции; израильтянка Ольга Уманская - один из лауреатов прежних фестивалей.
А еще споет Шуни Туваль - удивительная исполнительница, феноменальная. Израильтянка. Доктор математических наук, преподаватель из Хайфы, она в уже довольно зрелом возрасте впервые услышала песни Окуджавы и была настолько ими потрясена, что начала учить русский язык. Кончилось это тем, что Шуни стала переводчиком моего двойного (записанного по-русски и на иврите) альбома: четырнадцать поэтов Израиля и России в жанре авторской пенсии. Это и Высоцкий, и Окуджава, и Анри Волохонский, и Ким...
Выступит на фестивале человек, с которым я имела непередаваемое
наслаждение работать над последним диском, - композитор и Гитарист
милостью Божьей Михаил Машкауцан. Миша много сочиняет на слова
израильской поэтессы Лены Котт. А исполняют эти романсы такие певицы,
как Пономарева и Нани Брегвадзе.
Весной будущего года Лариса Герштейн мечтает провести первый всеизраильский фестиваль русского романса. - Кому-то может показаться, что романс - устаревший, забытый жанр, - говорит она. - Мы с Наташей
Манор (которая, к величайшему сожалению, не сможет участвовать во всех пяти концертах нынешнего фестиваля, потому что играет в спектаклях театра "Гешер") уже год устраиваем концерты русского романса. Нет, это не дуэт, скорее - перекличка. Аккомпанирует Миша Машкауцан. Он вовсе не подыгрывает - ловит на лету твое дыхание и дышит музыкой и поэзией вместе с тобой. Настоящий музыкант - без гонора, без амбиций...
Впрочем, настоящим музыкантом - от Бога! - является прежде всего сама Лариса Герштейн. Смысл жизни для нее заключается в странном, необъяснимом, не поддающемся анализу счастье взаимодействия с залом - и лично с каждым из слушателей. Никогда не забуду, как реагировал зал на выступление Ларисы во время одного из ее концертов в Иерусалиме.
Затих последний аккорд "Рахили" - но никто не хлопает. Я оглянулась. По щекам сидевшей сзади пожилой женщины катились слезы...
С Ларисой я знакома скоро 20 лет. Мы не подруги (женская дружба предполагает многословное общение и сопутствующую - эмоционально-бытовую тематику). С Ларисой мы - друзья. А дружба в общечеловеческом ее измерении - это родство душ вне зависимости от частоты встреч.Никогда не забуду, как летом 1990 года, увидев в коридоре редакции "Маарива" статную молодую женщину с копной заплетенных в косу волос, я спросила одного из коллег: "Кто это?" - "Лариса Герштейн. Величайшая певица, жена Эдуарда Кузнецова", - ответил он. Вряд ли в тот день я могла предположить, что пролетит год-другой - и мне посчастливится оказаться на той самой грубо сколоченной скамье, на которой сиживал с гитарой и без Поэт и гдe родилась пронзительная - чисто израильская версия песни-речитатива Окуджавы "До свидания, мальчики".
Вот почему (что бы ни случилось - даже если 13-го октября Абу-Мазен мой или Израиль решится наконец бомбить иранский ядерный реактор) - я брошу все дела и помчусь в театр "Гешер" на Шестой международный фестиваль Булата Окуджавы[/url]. Слушать волшебно музыкальную Высокую поэзию, ставшую для двух поколений подлинных интеллектуалов символом чести, достоинства и порядочности.
Исполнено в тот же день вечером на концерте Б.Окуджавы в Иерусалиме на русском и на иврите. Музыку написала Лариса Герштейн.
Герштейн Лариса Иосифовна (р. 1948), родилась в Киргизии - общественный и политический деятель Израиля (была вице-мэром Иерусалима), автор и исполнитель авторских песен, друг Б. Окуджавы. Ею записан альбом песен Булата Окуджавы в двух дисках на русском и на иврите "Две дороги", а также диск "Кончилось лето" с песнями В. Высоцкого, А. Галича и израильских авторов.
- Какой сюрприз! - приветствовала меня Лариса на пороге своего дома и, не дожидаясь ответа, потащила на кухню. Ту самую. Легендарную. На этой грубой скамейке - за небольшим продолговатым столом - сиживали все диссиденты, которым (подобно мужу Ларисы - Эдуарду Кузнецову) чудом удалось выжить в ГУЛаге и вырваться на волю из-под "железного
занавеса"; распивали здесь чаи Ариэль Шарон, Дан Меридор, Биньямин Нетаниягу, великий русский писатель Владимир Войнович, Эхуд Барак...
Но главное - много часов провел здесь за душевными беседами Булат Шалвович Окуджава. Здесь - на этой кухне и за этим столом - родилась его песня:
Сладкое время, глядишь, обернется копейкою:
Кровью и порохом тянет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою
Юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.
Как ты стоишь! Как рукою приклада касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мной возникли, хозяюшка,
Те фронтовые, иные, мои времена.
Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
Что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!
С Окуджавой Лариса познакомилась в 1981 году. В Израиле у нее тогда вышла пластинка. Она была второй по счету, но практически то была первая запись песен Окуджавы вне России. Песен было 15. С этим диском - на его премьеру - Герштейн отправилась в Париж. Во втором отделении концерта (впоследствии Лариса назвала его судьбоносным) израильская певица по привычке бросила в зал: "Может быть, кто-то хочет что-то услышать?" Встал Булат Окуджава, который, оказывается, сидел в заднем ряду, о чем Лариса даже не подозревала, и попросил: "Спойте меня на иврите..."
Лариса спела "Молитву" и "Ночной разговор". - "Молитвой" Окуджава был, безусловно, потрясен: на иврите эта песня превращается истинно в молитву, без всяких оговорок... - вспоминала потом Лариса. Спустя много лет, выступая в Москве на Первом международном фестивале памяти Булата Окуджавы, Герштейн вышла на сцену Театра имени Вахтангова - и неожиданно для себя произнесла: "А сейчас я вам спою "Молитву" Окуджавы на родном языке Господа Бога"... Разъяснения не потребовались - зал понял.
https://www.youtube.com/watch?v=H53xPF4Ha2Q&feature=related
Усевшись у старого, знакомого мне с начала 90-х стола, терпеливо жду, когда же Лариса расчехлит гитару. Но и Герштейн - мастер сюрпризов: вместо гитары притащила проигрыватель. - Вот, слушай!
Обида на судьбу бывает безутешна.
За что карает нас ее слепая плеть?
Не покидай меня, волшебница-надежда!
Я спел еще не все. Я должен уцелеть.
Слушаю - и мороз по коже.
- Лара, хоть это и не Окуджава - но какая сила!.
- Не отвлекайся. Слушай!
Подпирая щеку рукой,
От житейских устав невзгод,
Я на снимок гляжу с тоской,
А на снимке Двадцатый год.
Над местечком клубится пыль,
Облетает вишневый цвет.
Мою маму зовут Рахиль,
Моей маме двенадцать лет.
Под зеленым ковром травы
Моя мама теперь лежит.
Ей защитой не стал, увы,
Ненадежный Давидов щит.
И кого из своих родных
Ненароком ни назову, -
Кто стареет в краях иных,
Кто убитый лежит во рву.
Завершая урочный бег,
Солнце плавится за горой.
Двадцать первый тревожный век
Завершает свой год второй.
Выгорает седой ковыль,
Старый город во мглу одет.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
Погрузившийся во мглу Старый город - центр еврейского мироздания - высится неподалеку, в получасе езды от Моцы.
- Такое ощущение, будто эту песню Александр Городницкий писал не в далеком российском далеке, а здесь - в Иерусалиме, - замечаю я. - Просто здесь внучку еврейского поэта наверняка бы звали Рахель...
- Ее и зовут Рахель, - подтверждает Лариса, - в ивритской версии. Вот, послушай...И правда, Рахиль, заживо сгоревшая в огне Холокоста с обитателями родного "штейтл", в новой своей инкарнации вернулась на Святую землю 12-летней Рахелью. Но говорит она уже не на идише и не по-русски, мыслит - на иврите. А значит - другими категориями. Потому что здесь, в Иерусалимских горах, и сейчас - в двадцать первом веке - расстояние между жизнью и смертью парадоксальным образом сократилось до минимума. Сегодня ты есть - а завтра грянула новая интифада. И чем ты слабее и сговорчивее - тем сильнее будет удар. Потому что бьют - слабых. Сильных - боятся.
В своей ивритской инкарнации песни российских бардов получили новую жизнь. "Мы похоронены где-то под Нарвой?" А может все-таки - на военном кладбище в Иерусалиме? "По Смоленской дороге"? А может - по дороге в Бейт-Лехем? И все эти мистические переплетения еврейской судьбы с нашими личными судьбами цементирует Вечный, как наша история, город: "Над небом голубым есть город золотой"...
Слушаешь - и все твое существо охватывает волнение, будто каждая из этих песен была выношена и написана здесь - на обильно политой кровью, израненной, изуродованной террором исконно еврейской земле.
- Исполнишь "Рахиль" (или - "Рахель"?) на фестивале Булата Окуджавы?
- Понятия не имею... Ты ведь знаешь, я человек спонтанный: все зависит от аудитории.
О Шестом международном фестивале Окуджавы, который начнется 12 октября концертом в Беэр-Шеве, написано, казалось бы, немало, но его "изобретатель" и душа - Лариса Герштейн в текстах почти не упоминается, хотя через два месяца после смерти Поэта в Париже именно ее и осенила идея увековечения памяти Булата Шалвовича всепланетным творчеством. Сказано - сделано: первый фестиваль Окуджавы состоялся еще через месяц.Родилась традиция. Впоследствии в программах появились молодые исполнители, которые совершенно не обязательно пели поэзию Окуджавы. Исполняли собственные произведения, навеянные уникальной образной системой Булата Шалвовича. Обращались, как он, - к Богу.
Неспешно с Ним беседовали - божественная аура Иерусалима к тому предрасполагает. Получали премии. Обретали известность...
Дважды почетным гостем прошедших в Израиле фестивалей Окуджавы был писатель Владимир Войнович. Приезжал Фазиль Искандер. Пели Александр Градский, Татьяна и Сергей Никитины... Всех не упомнить...
- В каком ключе пройдет фестиваль в этом году?
- Женька, мы же договорились: никаких расспросов! - возражает Лариса, но, не выдержав, "раскалывается": - Знаешь, кто будет вести концерты (а они состоятся в Иерусалиме, Тель-Авиве, Ашкелоне, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине)? Вениамин Смехов! Невероятно одаренный актер, литератор, историк.
- Приедут ли российские исполнители?- Конечно! Без них фестиваль Окуджавы выглядел бы неестественно. Выступят братья Вадим и Валерий Мищуки. Для "равновесия" я пригласила Ефима и Якова Шапиро - тоже братьев, но - израильтян. Споет Алона Бренер. Широкой публике она известна как ведущая передач радио РЭКА, хотя на самом деле она - потрясающая певица с великолепной оперной школой, неподражаемо исполняет авторскую песню и романсы... Выступит израильский бард Марина Меламед, польская певица и переводчик Анета Ластик, ныне живущая во Франции; израильтянка Ольга Уманская - один из лауреатов прежних фестивалей.
А еще споет Шуни Туваль - удивительная исполнительница, феноменальная. Израильтянка. Доктор математических наук, преподаватель из Хайфы, она в уже довольно зрелом возрасте впервые услышала песни Окуджавы и была настолько ими потрясена, что начала учить русский язык. Кончилось это тем, что Шуни стала переводчиком моего двойного (записанного по-русски и на иврите) альбома: четырнадцать поэтов Израиля и России в жанре авторской пенсии. Это и Высоцкий, и Окуджава, и Анри Волохонский, и Ким...
Выступит на фестивале человек, с которым я имела непередаваемое
наслаждение работать над последним диском, - композитор и Гитарист
милостью Божьей Михаил Машкауцан. Миша много сочиняет на слова
израильской поэтессы Лены Котт. А исполняют эти романсы такие певицы,
как Пономарева и Нани Брегвадзе.
Весной будущего года Лариса Герштейн мечтает провести первый всеизраильский фестиваль русского романса. - Кому-то может показаться, что романс - устаревший, забытый жанр, - говорит она. - Мы с Наташей
Манор (которая, к величайшему сожалению, не сможет участвовать во всех пяти концертах нынешнего фестиваля, потому что играет в спектаклях театра "Гешер") уже год устраиваем концерты русского романса. Нет, это не дуэт, скорее - перекличка. Аккомпанирует Миша Машкауцан. Он вовсе не подыгрывает - ловит на лету твое дыхание и дышит музыкой и поэзией вместе с тобой. Настоящий музыкант - без гонора, без амбиций...
Впрочем, настоящим музыкантом - от Бога! - является прежде всего сама Лариса Герштейн. Смысл жизни для нее заключается в странном, необъяснимом, не поддающемся анализу счастье взаимодействия с залом - и лично с каждым из слушателей. Никогда не забуду, как реагировал зал на выступление Ларисы во время одного из ее концертов в Иерусалиме.
Затих последний аккорд "Рахили" - но никто не хлопает. Я оглянулась. По щекам сидевшей сзади пожилой женщины катились слезы...
С Ларисой я знакома скоро 20 лет. Мы не подруги (женская дружба предполагает многословное общение и сопутствующую - эмоционально-бытовую тематику). С Ларисой мы - друзья. А дружба в общечеловеческом ее измерении - это родство душ вне зависимости от частоты встреч.Никогда не забуду, как летом 1990 года, увидев в коридоре редакции "Маарива" статную молодую женщину с копной заплетенных в косу волос, я спросила одного из коллег: "Кто это?" - "Лариса Герштейн. Величайшая певица, жена Эдуарда Кузнецова", - ответил он. Вряд ли в тот день я могла предположить, что пролетит год-другой - и мне посчастливится оказаться на той самой грубо сколоченной скамье, на которой сиживал с гитарой и без Поэт и гдe родилась пронзительная - чисто израильская версия песни-речитатива Окуджавы "До свидания, мальчики".
Вот почему (что бы ни случилось - даже если 13-го октября Абу-Мазен мой или Израиль решится наконец бомбить иранский ядерный реактор) - я брошу все дела и помчусь в театр "Гешер" на Шестой международный фестиваль Булата Окуджавы[/url]. Слушать волшебно музыкальную Высокую поэзию, ставшую для двух поколений подлинных интеллектуалов символом чести, достоинства и порядочности.

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Старинный дом -Людмила Гурченко
http://playcast.ru/view/1533075/3c7f8d193080d557c7d360450da688d924dc2188pl
http://playcast.ru/view/1533075/3c7f8d193080d557c7d360450da688d924dc2188pl

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
"Гражданин поэт" -- образец современной сатиры. Поэт Дмитрий Быков каждую неделю пишет стихотворение на актуальную общественную или политческую тему, стилизованное под произведение того или иного классика русской литературы, а актер Михаил Ефремов его исполняет (новое видео -- каждый понедельник).
Автор идеи, продюсер, режиссер Андрей Васильев.
Официальная площадка проекта -- F5.ru
Автор идеи, продюсер, режиссер Андрей Васильев.
Официальная площадка проекта -- F5.ru

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
КВНу - 50 ! Поздравляю всех, кто любит эту замечательную игру!

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
"Набукко"- самая красивая опера Верди, о чём в Pоссии не говорили и вообще не исполняли эту оперу! Почему? Потому что эта опера о плененных евреях и исполняется хор евреев-рабов!
В Нью Йорке в оперном театре будут исполнять «Набуко»: 27 сент.- премьера., в Oктябре - 5, 8,12,15, 20; в Hоябре - 2,5,9,12,17 поседнее представление в сезон 2011-2012 г.г.
Bидео после прочтения текста...
В марте прошлого года отмечали 150 летие Италии. По этому случаю, Риккардо Мутти дирижировал в опере в Риме оперу "Набукко" Верди. В этой опере важна не только музыка, но и политический аспект: она рассказывает о рабстве евреев в Вавилоне, и в Италии "Хор еврейских пленников" является символом стремления народа к свободе, ещё со времени когда Италия была под оккупацией Габсбургов(Австрии), годы, когда опера была написана.
Берлускони присутствовал на концерте. Мэр Рима, вышел на сцену и выступил с речью, в которой он упомянул о сокращении бюджета по культуре по решению правительства.
Мутти рассказывает : - "толпа была в восторге и аплодировали еще до начала оперы Все шло хорошо, пока мы не дошли до хора рабов "(Va pensiero) я почувствовал напряжение в воздухе. Есть вещи, которые невозможно описать, только почувствовать их: было тихо в зале.... Вы могли почувствовать солидарность публики с плачем пленных евреев : "О моя родина, такая прекрасная и утраченная"
Когда хор закончил , я начал слышать крики "бис". И толпа начала кричать:
"Viva Italia Viva Verdi !"(Да здравствует Италия, да здравствует Верди!) и бросать записки патриотического содержания."
Хотя Мути не делает бисы в середине оперы, потому что опера должна исполняться последовательно от начала до конца, он не мог играть просто на бис, но сделал это с особым намерением.
Когда стихли аплодисменты он обратился к Берлускони и аудитории: "Я итальянец, но много гастролирую по всему миру, и сегодня мне стыдно от того, что происходит в моей стране, поэтому я принял вашу просьбу повторить." Vа pensiero "не только из-за патриотического содержания в этом хоре, а потому что сегодня, когда я исполнял эти слова:" О, моя родина, прекрасная и утраченная", я думал, что если мы будем продолжать таким образом, мы искореним культуру, основанную на истории Италии, и наша страна действительно будет по-настоящему прекрасная и утраченная"
(Аплодисменты зрителей и исполнителей)
"Мы здесь, в итальянской атмосфере ... и я, Мутти, молчал в течение многих лет. Теперь я хочу придать смысл этой песне. Мы находимся у себя дома, римский театр и хор, который пел прекрасно, и оркестр, который сопровождал совершенно замечательно. Я предлагаю вам присоединиться, и мы будем петь все вместе."
Все зал встал одновременно с хором. Это был волшебный момент в опере.
В ту ночь было не просто исполнение оперы «Набукко», но заявление о театре столицы Италии для привлечения внимания политиков.
Посмотрите это волнующее видео:
https://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs
https://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs
Был всё-таки повтор на Бис, но он стоил этого! Потрясающе!
Нужно быть абсолютно бессердечным человеком или
безнадёжным антисемитом, чтобы не прослезиться от
ощущения счастья близости, сочувствия и поддержки этих римлян !!!
И их сознания того что они тоже могут оказаться чужими в своей собственной стране.

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Гомер 20-го столетия
27.07.2011
События той ночи, когда арестовали студента Литинститута, а впоследствии известного поэта Наума Коржавина, произвели неизгладимое впечатление на его сокурсников. В повести «Охота» Владимир Тендряков описал ее так:
«Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги: «Вы арестованы!». Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу. «Оружие есть?». Эмка бормочет каким-то булькающим голосом: «Что же это?.. За что?.. Товарищи...». На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем. «Можно я прощусь?». — «Пожалуйста». Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям: «Владик, до свидания. Сашуня... Володя...». Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку».
Родившийся в Киеве, сидевший на Лубянке, сосланный в Караганду, автор знаменитых стихотворений, в том числе неподражаемой иронической «Баллады об историческом недосыпе» («Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит?»), вот уже 36 лет Наум Моисеевич живет в городе Бостоне, штат Массачусетс, США.
В своих стихах, статьях, эссе и мемуарах Коржавин рассказал о пути, который прошли многие его сверстники. В молодости они беззаветно верили в коммунистическую идею и вождей построенного на ней государства, а в зрелые годы беспощадно вытравили в себе рабов.
Из яркого созвездия поэтов, чье становление пришлось на сороковые-роковые, сегодня остался он один. Науму Коржавину — 85. Его, почти ослепшего, сложившего в своем творчестве эпос о «соблазнах кровавой эпохи» и их преодолении, друзья называют Гомером ХХ столетия.
«КОГДА МЕНЯ СПРОСИЛИ: «ОРУЖИЕ ЕСТЬ?», Я СПРОСОНОК БУРКНУЛ: «ПУЛЕМЕТ ПОД КРОВАТЬЮ»
— Наум Моисеевич, правильно ли Владимир Тендряков описал сцену вашего ареста? Известно ведь, что, сколько свидетелей, столько и версий.
— Тендряков правильно описал. Когда меня спросили «Оружие есть?», я спросонок буркнул: «Пулемет под кроватью». Потому что какое могло быть оружие в комнате общежития, где бок о бок живет 10 человек, причем все в основном фронтовики, которые понимают в этом толк?
Тогда мы с Тендряковым еще не дружили, не говорили на острые темы, я не знал, что он пишет и что думает. А подружились, когда я вернулся из ссылки. Он был прекрасным человеком и хорошим писателем.
— Вы делили комнату в общежитии также с Бондаревым, Солоухиным, Гамзатовым. Они все были свидетелями ночного ареста?
— Да, но сначала по ордеру на арест подняли соседнее общежитие. Потом в моем будили всех подряд, пока не добрались до меня. Мой арест проспал только Расул Гамзатов. В тот вечер он вернулся откуда-то сильно подшофе. Перед уходом я с трудом разбудил его, и он, увидев меня, одетого среди ночи в пальто, спросил: «Эмка, ты куда?». Потом в институте над этой фразой долго подшучивали.
Владимир Тендряков, «Охота»: «Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами».
— Рассказывали, что Борис Слуцкий придумал единицу измерения — «мандель». Один «мандель» равнялся ста «кобзям» (по фамилии литинститутского комсорга Кобзева). В то же время сокурсники вывесили стенгазету с карикатурой, где изобразили вас в экзотической шинели-пелерине без хлястика, стоптанных валенках и островерхой буденновке. Мне рассказывали, что поперек карикатуры вы написали: «Слава Богу, о нас будут судить по стихам, а не по виду сзади». И все-таки буденновку откуда взяли?
— Это было, когда я приехал в Москву, в 44-м, после эвакуации. Какие-то друзья дали мне одежду. И буденновку тоже. Я носил ее не потому, что хотел экзотики, а потому, что просто ничего другого у меня не было.
— Примерно тогда же вы написали такие строчки: «Мне каждое слово будет уликою минимум на 10 лет...».
— «...Иду по Москве, переполненной шпиками, как настоящий поэт». Я писал стихи, которые нельзя было печатать. Вопрос даже не стоял, запрещать меня или не запрещать — я просто не мог появиться в литературе.
— Тендряков считал, что вас предал студент Литинститута Малов.
— Малов был тяжело ранен, контужен. И он обижался на меня за то, что я учусь на дневном отделении, а он, фронтовик, — на заочном. Но, я считаю, меня никто не предал. Ну как можно предать человека, который публично читает свои стихи?
— Вас арестовали за стихотворение «16 октября». Мало того что это была запретная дата — день всеобщей паники под угрозой немецкой оккупации Москвы, так еще и про Сталина высказались, мягко говоря, нелицеприятно:
А там, в Кремле, в пучине славы,
хотел познать двадцатый век
великий, но и полуслабый,
сухой и черствый человек!
— Завершающая строфа моего стихотворения гуляла по Москве в искаженном виде. У меня же было совсем не так: никакого «полуслабого» или «черствого» Сталина. Я написал: «Cуровый, жесткий человек, не понимавший Пастернака». Это было сталинское стихотворение.
«И Я БРОДИЛ В АКАЦИЯХ, КАК В ДЫМЕ, И МНЕ ТОГДА ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ВРАГОМ»
— То есть вас посадили не за антисталинские стихи, а, наоборот, за сталинские? Как так? Вы ведь все понимали о 37-м годе в отличие от многих, кто и тогда ничего не понимал, и теперь.
— Да, я уже в 37-м понял, что откачали воздух. Правда, тогда я еще верил в коммунизм. В то же время некуда было деться от подозрений насчет предательства Сталиным революции. Я понимал, что Сталин — это не коммунизм, а что-то другое, пустое. Этого нельзя было не понимать. В 44-м я написал «Стихи о детстве и романтике», которые заканчиваются так:
...И я поверить не умел никак,Когда насквозь неискренние людиНам говорили речи о врагах...Романтика, растоптанная ими,Знамена запыленные — кругом...И я бродил в акациях, как в дыме.И мне тогда хотелось быть врагом.
— Вы провели на Лубянке восемь месяцев.
— 10. В своих мемуарах я назвал это «сталинист сидит в сталинской тюрьме». Я не был таким умным, как многим хочется. Я все-таки был самим собой.
— Допрашивали с пристрастием?
— Нет, ничего такого не было, меня никто не мучил, не бил. Мне было страшно из-за другого — я не понимал: как же так? Ведь я считал, что на моей стороне — высокое понимание сталинской правоты.
— У вас есть еще такие стихи: «Но просто не верило слуху и зренью и собственным мыслям мое поколенье».
— У меня было доверие, хотя я часто сомневался. Но я изменил свое отношение к Сталину, когда закончилась война. Возвращались фронтовики, мои друзья, и Сталин был их главнокомандующим. А я ведь не воевал по состоянию здоровья, и для меня слово товарищей-фронтовиков значило очень много.
Но Сталину не требовались ни коммунисты, ни даже сталинисты. Сталинисты — это те, кто признают Сталина. А нужно было не признавать, а поклоняться.
— Если признаешь, значит, теоретически можешь и не признавать?
— Когда меня спрашивают: «По какой статье вас посадили?», я отвечаю: «Меня посадили не по статье, а по Салтыкову-Щедрину». По абзацу из «Истории одного города»: «Восхищение начальством! Что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным невосхищения! А отсюда до революции — один шаг!». Обыватель должен не восхищаться, а трепетать.
Я, конечно, слышал про сталинские перегибы, а тут и сам под них подпал. Но даже тогда я не протрезвел — ничего подобного.
— И ссылка не отрезвила?
— Нет. По моей тогдашней психологии в связи с «диалектикой приятия». А отрезвился я потому, что вакханалия космополитизма проходила и в моем «цехе», в литературной среде, и всех ее действующих лиц я знал.
Например, того же Малова из Литинститута и Софронова, секретаря Союза писателей СССР. Они были для меня знаковыми фигурами. Находясь в ссылке, я пришел однажды в библиотеку почитать газеты. Увидел отчеты о писательских собраниях. И тут я задал себе вопрос: «А что же остается? Сплошной Софронов?». И все полетело, я освободился от сталинизма.
— А как вы узнали о смерти Сталина?
— В это время я жил в Караганде. Узнал, как все, по радио. С радостью я ее не принял — боялся, что станет еще хуже, чем было. Но все-таки я его уже ненавидел. У меня была такая строчка, она не вошла ни в один сборник: «Герострат революции — Сталин».
В марте 53-го я написал стихотворение «На смерть Сталина»:
В его поступкахЛжи так много было,А свет знаменИх так скрывал в дыму,Что сопоставить это всеНе в силах -Мы простоСлепо верили ему.
— А в «оттепель» стало полегче? Особенно когда вышла первая значительная подборка ваших стихов в «Тарусских страницах», а вслед за ней и первая книжка — «Годы»?
— На самом деле, только во времена Горбачева язык освободился от какого-то бредового флера. К Хрущеву же я относился без восторга. Большая благодарность ему за ХХ съезд и за то, что припечатал Сталина, а так... Он явно не был мыслителем.
«ИЗ КИЕВА ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ВЫРВАТЬСЯ В МОСКВУ — ДАВИЛО И ЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗДЕСЬ ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ»
— Как вы впервые вступили на тропу войны за собственное мнение? Кажется, эта тропа брала начало в Киеве?
— Была такая история. Директор киевской школы, где я тогда учился, Иван Федорович Головач был сложным человеком, до этого работал редактором какого-то журнала, но его оттуда турнули. Впрочем, и я не был подарком, имел репутацию возмутителя спокойствия.
Я регулярно ходил в очень хороший литкружок при редакции газеты «Юный пионер». Руководила им Ариадна Григорьевна Давиденко, будущий писатель-фантаст Ариадна Громова. Потом пошел в кружок при Дворце пионеров (мы его называли Палац), он находился в конце Крещатика, в бывшем Купеческом собрании.
Тогда я начал писать серьезные стихи. На школьном вечере читал что-то из написанного, и как раз в это время нелегкая занесла в зал Ивана Федоровича. Стихи не были антисоветскими, а что-то против мещанства. Но директор уловил в них крамолу и начал буквально преследовать меня. За какую-то ерунду, в которой я даже не был виноват, меня выгнали из школы.
Пришлось искать справедливость в обкоме комсомола. Он располагался на Крещатике в уютном особнячке, жаль, во время войны его взорвали. Мне помогла заведующая школьным отделом Зоя Федотова, миловидная молодая женщина. Не знаю, что сталось с ней потом, скорее всего, подалась в учительницы.
— Представьте, вы правы. Зоя Васильевна Федотова стала директором 38-й школы, где я училась.
— Вот как! В результате ее заступничества меня направили в городской отдел образования, а оттуда — в другую школу. За это время Иван Федорович Головач рассказал в газете «Сталинское племя», что я хулиган и плохой поэт.
Но я его простил. Тем более когда узнал, как во время оккупации Киева Иван Федорович был расстрелян немцами. Думаю, как все, — в Бабьем Яру.
— Наверное, до войны вы и не догадывались, что есть такое место — Бабий Яр.
— Впервые услышал в эвакуации, на Урале. Как-то отец прочитал в газете очерк о трагедии Бабьего Яра. Потом я узнал, что там погибли моя тетя и ее муж, они жили в нашей квартире на Владимирской, 97б. Туда же переехал и дядя, который раньше жил на Демеевке, а когда там высадился немецкий десант, перебрался в оставленную нами комнату. Он тоже лежит в Бабьем Яру.
Немцы вошли в Киев 19 сентября, расстрелы в Бабьем Яру начались 29-го. Эти 10 дней мои родные жили под властью дворника Митрофана Кудрицкого. Допускаю, что после тех измывательств, которые он им устроил, свою гибель они восприняли как освобождение.
Гестапо арестовало и расстреляло и моего друга поэта Якова Гальперина. До войны он был в одной компании с Семеном Гудзенко и другими хорошими ребятами. Наверное, его тоже свезли в Бабий Яр.
— Я питомец киевского ветра,
Младший из компании ребят,
Кто теперь на сотни километров
В одиночку под землей лежат.
Многим киевлянам лестно, что вы наш земляк.
— И все-таки из Киева мне очень хотелось вырваться в Москву, на широкую площадь. Давило и знание того, что произошло здесь во время оккупации.
«В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА СТОЯЛ СТОЛИК, А НА НЕМ ПОД СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ — СКЕЛЕТ РЕБЕНКА»
— В Киеве вас заметил Николай Асеев, которого после смерти Маяковского выдвигали, если можно так сказать, на роль первого поэта страны. А как вы познакомились?
— Николай Николаевич был футуристом, и я в детстве тоже был футуристом, хотя не по стихам, а по поведению: мне нравилось «скандалить», я, например, мог встать и задать какому-нибудь докладчику резкий вопрос.
Асеев приехал в Киев с выступлениями. Конечно, я не мог пропустить возможности показать ему свои стихи и отправился в гостиницу. Он велел переписать два моих стихотворения и увез их с собой. Потом на семинаре в Литинституте, где он преподавал, Асеев прочел эти стихи студентам. Так что, когда я приехал в Москву и, сначала не планируя поступать в Литинститут, просто так зашел туда и в коридоре разговорился с ребятами, они мне сказали: «А мы твои стихи знаем».
Точно так же я встретился в Киеве с Иосифом Уткиным. Из гостиницы мы с ним вышли прогуляться. Он спросил, как пройти куда-то. Я говорю: «Можно тудой, а можно сюдой». Он поправил: «Можно так, а можно так». А Владимир Жаботинский писал, что «тудой-сюдой» более выразительно.
Из книги Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии».
«В год смерти Сталина, весенним днем, передо мной в литинститутском коридоре внезапно выросла Легенда. Странно, но она была небольшого роста. Несмотря на только что отбытую ссылку, человек-Легенда был вовсе не исхудавший, а с довольно пухлыми щечками, с озорными, так и брызжущими любопытством неуемными глазами, готовыми выбить напором энергии стекла очков из дешевенькой железной оправы... Ну а его стихи я во множестве знал наизусть, хотя они тогда еще не были нигде напечатаны. Да разве я один...».
— И вот вы — в Москве. Новая жизнь, интересные знакомства.
— Одно из них — с Сергеем Эйзенштейном — я воспринимал вообще как феерическое. Я и мой друг Максим Калиновский оказались на дне рождения одной из его студенток по ВГИКу. Создатель «Броненосца Потемкина» запросто сидел в кресле в окружении влюбленных в него учеников, много шутил.
Мы с Максимом напросились к нему в гости. Он жил один в большой квартире, стены были увешаны фотографиями. В одной из комнат Эйзенштейна стоял небольшой столик, а на нем под стеклянным колпаком — скелет ребенка.
— Это были останки его трехлетнего сына?
— Точно не помню, кажется. Меня это, конечно, удивило, я не привык рассматривать скелеты. Сергей Михайлович был странным человеком, но ничего. А потом произошел очень неприятный для меня эпизод. У него там была какая-то гладкая палочка, я стал ее вертеть и сломал. Оказалось, что это дирижерская палочка. Я был неграмотный и дирижерских палочек до этого никогда не видел, вот и отнесся к ней без пиетета.
— И за это Эйзенштейн не выгнал вас из дома?
— И даже не стал плохо относиться. Но, конечно, ужасно огорчился, эта палочка была ему чем-то очень дорога. И потом при встречах всегда напоминал мне о ней.
— Вы ведь и с Анной Ахматовой общались.
— Познакомился с ней в Москве у Ардовых. Иосиф Уткин рассказал Анне Андреевне, что есть такой Наум Коржавин, и дал мне ее телефон.
И вот я пришел в дом к Ардовым. Она открыла и спрашивает: «А вы меня такой себе представляли?». Я говорю: «Примерно такой, потому что видел ваше фото». Тогда она уже не отличалась особой стройностью, как в молодости, но по-прежнему была королевой. Я это сразу почувствовал и смотрел на нее снизу вверх. С Ахматовой, как ни странно, у меня были простые отношения. Я читал ей свои стихи, и она относилась к ним одобрительно.
А вот с Пастернаком отношения были сложные. Хотя и он к моим стихам отнесся неплохо.
— Вы встречались с Пастернаком и во время его травли?
— Да. Я не раз бывал у него в Переделкино. Жаль, не вел дневников, а то рассказал бы больше. Я же к нему и Ахматовой приходил не для мемуаров и не для интервью, а просто так.
— Не вели дневников? А как же вы написали два огромных тома воспоминаний?
— По памяти.
«ЭРЕНБУРГ МЕНЯ БЛАГОСЛОВИЛ — В ОТНОШЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ ОН БЫЛ АБСОЛЮТНО ЧЕСТЕН»
— На похоронах Пастернака были? Мало кто из коллег отважился отдать великому поэту последний долг.
— Вместе с историком Монгайтом мы приехали на машине. Встретили Булата Окуджаву. Прошли переулочком, вышли на дорогу возле Дома творчества. Смотрю: Винокуров стоит. Я его окликнул: «Женя! Ты в Доме творчества отдыхаешь?». Так, с поддевкой. А он: «Да, отдыхаю, вышел подышать». Потом подошел ко мне и говорит: «Понимаешь, из секции никого нету. Межиров был, где-то ходит». Женя Винокуров был человеком осторожным, но очень порядочным. А Ваншенкин, которому он позвонил, сказал, что не может приехать — «пишет сейчас».
Из книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
«Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя».
— Николай Асеев вас заметил, а Илья Эренбург благословил.
— Да, верно, Эренбург меня благословил. Познакомился я с ним в Киеве точно так же, как с Асеевым и Уткиным. Илья Григорьевич только-только вернулся в Россию из Франции и стал выступать с литературными вечерами в разных городах. Буквально за несколько месяцев до войны он заехал в Киев.
Наш литкружок не мог упустить такой возможности — пообщаться со знаменитым писателем. Я и Ариадна Григорьевна Давиденко пошли к нему в гостиницу. Постучались в номер, он открыл, и первое, что мне бросилось в глаза, — его костюм из какой-то удивительной, мохнатой ткани. На меня она произвела колоссальное впечатление, и я больше ничего не видел.
Он сказал, что у него нет времени на посещение нашего литкружка (и так оно и было), и мы ушли ни с чем. Я страшно огорчился: «Что же это я ходил, как дурак, и ничего!». Ариадна Григорьевна посоветовала: «Вернитесь и скажите, что вы застеснялись и забыли почитать свои стихи». Я так и сделал. Мое стихотворение Илье Григорьевичу понравилось. И когда я был на его вечере, он подошел ко мне на глазах у всей публики и сказал что-то хорошее.
— Можно себе представить, что это значило для мальчишки в 15 лет.
— Так много, что когда в эвакуации я стал готовиться к службе в армии и задумал работать военным корреспондентом, то рассчитывал на помощь Эренбурга. Я был уверен, что он меня помнит. А что меня можно не помнить, я представить себе не мог. Но он вспомнил меня, когда после ссылки я приехал в Москву, и очень тепло принял.
— И помог восстановиться в Литинституте.
— Это было непросто: меня очень не хотели восстанавливать. Долматовский (лауреат Сталинской премии, член приемной комиссии Литинститута. - Авт.) написал «нужную» рецензию, чтобы меня не принимали.
— Неужели и после смерти Сталина Евгений Долматовский, сын репрессированного, продолжал бояться?
— Он был конформистом и плохо относился к людям, которые конформистами не были. Правда, со временем он даже пытался со мной разговаривать, заигрывал. Но это было потом. А тогда Эренбург написал Долматовскому: «Вы как неталантливый человек должны были бы поддерживать талантливых, а вы...».
Конечно, Илья Григорьевич понимал, где живет. Ведь почти всех, кто был с ним рядом, посадили. Я даже не могу перечислить. Он писал, будто выиграл в лотерею. А в отношении литературы Эренбург был абсолютно честен — старался защитить литераторов, поддерживал многих опальных поэтов и писателей.
— Говоря о вас, многие вспоминают прежде всего «самиздатскую» «Балладу об историческом недосыпе» — «Памяти Герцена»: «Но декабристы разбудили Герцена. Он недоспал, отсюда все пошло». В те времена она могла стоить вам тюрьмы или психушки.
— Не-а. Получилась такая шутка, и я был доволен: люди смеялись, и я тоже. И власти тогда ко мне не применили никаких экзекуций. Я никогда не считал свои стихи смелыми, не причислял себя к диссидентам.
— А как же ваша подпись под письмами в защиту диссидентов Галанскова и Гинзбурга, Синявского и Даниэля, подпольный самиздат?
— В самиздате не печатался. А просто, если люди хотели читать мои стихи, переписывали их, это и был самиздат. Письма подписывал, если считал их верными. Но меня не увлекала диссидентская деятельность. Я поэт и не мог все время отслеживать, что говорит и делает власть. Я отношу себя не к шестидесятникам, а к предвоенному поколению.
— Но власть считала вас диссидентом. Вы же много лет писали, что называется, в стол.
— Но я это так не воспринимал. Я читал друзьям, всем, кому мог.
— На что жили?
— В ссылке деньгами помогали родители. В Караганде я работал, пытался даже сапожником, но из этого ничего не вышло, писал всякие дежурные стихи... Много на этом не заработаешь, но на жизнь хватало.
А когда приехал в Москву, в отделе поэзии народов СССР при издательстве «Советский писатель» мне предложили заняться переводами. Я плохо понимал, что это такое, но со временем разобрался и стал более-менее жить. Потом меня познакомили с Кайсыном Кулиевым, мы подружились, я его много переводил.
— Ходили слухи, что московские поэты делают имя бездарным авторам, живущим в республиках ради оправдания лозунга о дружбе народов СССР.
— Что ж, случалось, что и я какую-то абракадабру доводил до среднего уровня. Жить-то надо было. Но Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова никто из переводчиков не «сделал». Они были большими поэтами.
— Если все было не так уж плохо — заработок, признание, то что вас заставило покинуть СССР?
— Был я как-то в Доме творчества, приехал в Москву — смотрю: вызов в прокуратуру. Явился. Стали допрашивать — ни о чем, а так, в основном о том, что я читаю. Я жутко разозлился. Я уже тогда был довольно известным поэтом, и тут получается — могут вызывать, допрашивать.
— Думаете, хотели завести на вас дело?
— Теперь я так не думаю. Но тогда меня прежде всего возмутила сама возможность допроса. Все-таки существовало что-то такое, из чего я писал. И хорошо писал.
— Жалеете, что уехали?
— Жалею. Уехал сдуру. Мне лучше было бы жить и умереть в России.
— А как вам в годы эмиграции работалось в знаменитом журнале «Континент»? Вы там были членом редколлегии? Или это номинальная должность?
— Очерченных обязанностей у меня не было. Я мог по совету главного редактора и моего друга еще с Москвы Максимова что-нибудь написать.
«Я СКАЗАЛ ВИКЕ НЕКРАСОВУ: «ВЫ, ДВОРЯНЕ, ПРОСРАЛИ РОССИЮ»
— В «Континенте» у вас вышло немало статей, в том числе полемических. В частности, о Бродском написали нелицеприятно...
— Я писал не о Бродском, а о культе Бродского. Некоторые его стихи считаю очень талантливыми. Но культ Бродского плохо повлиял на развитие поэзии. Появилась такая страсть к гениальности. Вместо того чтобы быть самими собой, люди стали «гениальными». И Бродский открыл эту дорогу.
— А как вам работалось с Виктором Некрасовым? Он же был замом главного редактора «Континента»?
— Я знал его не как заместителя главного редактора, а как Вику Некрасова. Как ни странно, я познакомился с ним не в Киеве, а в Москве у моих друзей. Потом уже и в Киеве мы встречались.
Он был хорошим человеком, иногда немного легкомысленным. Вот киевский пример. К его жене приезжала какая-то знакомая из Днепропетровска. А мы при ней говорили все, что угодно. Потом я стал замечать, что то одно, то другое из наших разговоров всплывает где не надо. А Вика лишь отмахивался. Тогда я сказал ему: «Вы, дворяне, просрали Россию». Он рассмеялся.
Потом я встречался с ним в Париже, в Америке. Он ничуть не изменился. Остался таким же легкомысленным, как и был.
— Ваше стихотворение «Дети в Освенциме» невозможно читать без слез:
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
Кажется, ваша супруга Любовь Семеновна именно после этих стихов решила связать с вами свою судьбу. Сколько лет вы вместе?
— Дайте посчитаю... Любочка (жене), сколько лет мы вместе? (После подсказки) ...С 65-го года. Люба, расскажи, как мы познакомились.
Любовь Семеновна:— Я работала в Кишиневе в республиканской библиотеке. Однажды меня вызвал директор и сказал, что в рамках Декады русской литературы в Молдавии к нам приезжает группа писателей и нужно устроить 10 встреч с читателями. Я рассердилась и сказала, что у меня план выполнен. Но он настаивал: «Есть такое большевистское слово «надо». Когда я узнала, что будет и Коржавин, немного смягчилась. Я уже читала его произведения в журналах «Юность», «Новый мир», в «Тарусских страницах». Это было очень большим событием в литературной жизни.
И вот я увидела такого человека, ну, невысокого, уже склонного к полноте и с лысиной, но совершенно очаровательного. Это и был Наум Моисеевич. Читатели принимали Коржавина на ура. А когда на одном из вечеров я услышала стихотворение «Мужчины мучили детей», то долго ходила под большим впечатлением. К концу декады все было решено.
— Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год -
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
А кони все скачут и скачут.
А избы горят и горят.
Наум Моисеевич, у вас есть дети, внуки?
— Дочь Лена от первого брака, еще карагандинского. Есть и внуки — Наташа и Гриша. Все живут здесь, в Америке. Наташе — 24 года, Грише — 20. Внучка окончила медицинскую школу и теперь должна специализироваться как врач, а внук заканчивает престижное учебное заведение в Калифорнии, будет программистом.
— Сейчас что-нибудь пишете?
— Ничего не пишу, я болен, да и не вижу ничего.
— Но многим бы вашу прозорливость. Свои мемуары вы назвали «В соблазнах кровавой эпохи». У вас есть предчувствие того, каким будет нынешний век?
— Я его очень боюсь. Существует опасность крушения цивилизации. Люди добились каких-то прав и свобод, но далеко не всегда знают, что с ними делать, и часто направляют их на разрушение. Вот как теперь благодаря свободе слова публикуется секретная переписка. Все свободы хороши, когда у людей есть внутренние ограничители, а когда их нет, то все пропадает. В цивилизованные страны приезжают исламисты и требуют свобод. Но их свобода — это удушение нашей цивилизации.
— И нет надежды? Как в одном из ваших последних по времени произведений «Последний язычник»:
Как хотелось мне жить, хоть о жизни давно отгрустили,
Как я смысла искал, как я верил в людей до поры...
Я последний язычник среди христиан Византии,
Я отнюдь не последний, кто видит, как гибнут миры.
— Единственная надежда на работу. Разум восторжествует, если люди будут для этого стараться. Я оптимист, но мой оптимизм небезоблачный. Я считаю, что если стараться взбивать масло, то оно, скорее всего, взобьется. Работать надо.
Любовь Хазан Бульвар Гордона
27.07.2011
События той ночи, когда арестовали студента Литинститута, а впоследствии известного поэта Наума Коржавина, произвели неизгладимое впечатление на его сокурсников. В повести «Охота» Владимир Тендряков описал ее так:
«Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги: «Вы арестованы!». Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу. «Оружие есть?». Эмка бормочет каким-то булькающим голосом: «Что же это?.. За что?.. Товарищи...». На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем. «Можно я прощусь?». — «Пожалуйста». Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям: «Владик, до свидания. Сашуня... Володя...». Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку».
Родившийся в Киеве, сидевший на Лубянке, сосланный в Караганду, автор знаменитых стихотворений, в том числе неподражаемой иронической «Баллады об историческом недосыпе» («Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит?»), вот уже 36 лет Наум Моисеевич живет в городе Бостоне, штат Массачусетс, США.
В своих стихах, статьях, эссе и мемуарах Коржавин рассказал о пути, который прошли многие его сверстники. В молодости они беззаветно верили в коммунистическую идею и вождей построенного на ней государства, а в зрелые годы беспощадно вытравили в себе рабов.
Из яркого созвездия поэтов, чье становление пришлось на сороковые-роковые, сегодня остался он один. Науму Коржавину — 85. Его, почти ослепшего, сложившего в своем творчестве эпос о «соблазнах кровавой эпохи» и их преодолении, друзья называют Гомером ХХ столетия.
«КОГДА МЕНЯ СПРОСИЛИ: «ОРУЖИЕ ЕСТЬ?», Я СПРОСОНОК БУРКНУЛ: «ПУЛЕМЕТ ПОД КРОВАТЬЮ»
— Наум Моисеевич, правильно ли Владимир Тендряков описал сцену вашего ареста? Известно ведь, что, сколько свидетелей, столько и версий.
— Тендряков правильно описал. Когда меня спросили «Оружие есть?», я спросонок буркнул: «Пулемет под кроватью». Потому что какое могло быть оружие в комнате общежития, где бок о бок живет 10 человек, причем все в основном фронтовики, которые понимают в этом толк?
Тогда мы с Тендряковым еще не дружили, не говорили на острые темы, я не знал, что он пишет и что думает. А подружились, когда я вернулся из ссылки. Он был прекрасным человеком и хорошим писателем.
— Вы делили комнату в общежитии также с Бондаревым, Солоухиным, Гамзатовым. Они все были свидетелями ночного ареста?
— Да, но сначала по ордеру на арест подняли соседнее общежитие. Потом в моем будили всех подряд, пока не добрались до меня. Мой арест проспал только Расул Гамзатов. В тот вечер он вернулся откуда-то сильно подшофе. Перед уходом я с трудом разбудил его, и он, увидев меня, одетого среди ночи в пальто, спросил: «Эмка, ты куда?». Потом в институте над этой фразой долго подшучивали.
Владимир Тендряков, «Охота»: «Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами».
— Рассказывали, что Борис Слуцкий придумал единицу измерения — «мандель». Один «мандель» равнялся ста «кобзям» (по фамилии литинститутского комсорга Кобзева). В то же время сокурсники вывесили стенгазету с карикатурой, где изобразили вас в экзотической шинели-пелерине без хлястика, стоптанных валенках и островерхой буденновке. Мне рассказывали, что поперек карикатуры вы написали: «Слава Богу, о нас будут судить по стихам, а не по виду сзади». И все-таки буденновку откуда взяли?
— Это было, когда я приехал в Москву, в 44-м, после эвакуации. Какие-то друзья дали мне одежду. И буденновку тоже. Я носил ее не потому, что хотел экзотики, а потому, что просто ничего другого у меня не было.
— Примерно тогда же вы написали такие строчки: «Мне каждое слово будет уликою минимум на 10 лет...».
— «...Иду по Москве, переполненной шпиками, как настоящий поэт». Я писал стихи, которые нельзя было печатать. Вопрос даже не стоял, запрещать меня или не запрещать — я просто не мог появиться в литературе.
— Тендряков считал, что вас предал студент Литинститута Малов.
— Малов был тяжело ранен, контужен. И он обижался на меня за то, что я учусь на дневном отделении, а он, фронтовик, — на заочном. Но, я считаю, меня никто не предал. Ну как можно предать человека, который публично читает свои стихи?
— Вас арестовали за стихотворение «16 октября». Мало того что это была запретная дата — день всеобщей паники под угрозой немецкой оккупации Москвы, так еще и про Сталина высказались, мягко говоря, нелицеприятно:
А там, в Кремле, в пучине славы,
хотел познать двадцатый век
великий, но и полуслабый,
сухой и черствый человек!
— Завершающая строфа моего стихотворения гуляла по Москве в искаженном виде. У меня же было совсем не так: никакого «полуслабого» или «черствого» Сталина. Я написал: «Cуровый, жесткий человек, не понимавший Пастернака». Это было сталинское стихотворение.
«И Я БРОДИЛ В АКАЦИЯХ, КАК В ДЫМЕ, И МНЕ ТОГДА ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ВРАГОМ»
— То есть вас посадили не за антисталинские стихи, а, наоборот, за сталинские? Как так? Вы ведь все понимали о 37-м годе в отличие от многих, кто и тогда ничего не понимал, и теперь.
— Да, я уже в 37-м понял, что откачали воздух. Правда, тогда я еще верил в коммунизм. В то же время некуда было деться от подозрений насчет предательства Сталиным революции. Я понимал, что Сталин — это не коммунизм, а что-то другое, пустое. Этого нельзя было не понимать. В 44-м я написал «Стихи о детстве и романтике», которые заканчиваются так:
...И я поверить не умел никак,Когда насквозь неискренние людиНам говорили речи о врагах...Романтика, растоптанная ими,Знамена запыленные — кругом...И я бродил в акациях, как в дыме.И мне тогда хотелось быть врагом.
— Вы провели на Лубянке восемь месяцев.
— 10. В своих мемуарах я назвал это «сталинист сидит в сталинской тюрьме». Я не был таким умным, как многим хочется. Я все-таки был самим собой.
— Допрашивали с пристрастием?
— Нет, ничего такого не было, меня никто не мучил, не бил. Мне было страшно из-за другого — я не понимал: как же так? Ведь я считал, что на моей стороне — высокое понимание сталинской правоты.
— У вас есть еще такие стихи: «Но просто не верило слуху и зренью и собственным мыслям мое поколенье».
— У меня было доверие, хотя я часто сомневался. Но я изменил свое отношение к Сталину, когда закончилась война. Возвращались фронтовики, мои друзья, и Сталин был их главнокомандующим. А я ведь не воевал по состоянию здоровья, и для меня слово товарищей-фронтовиков значило очень много.
Но Сталину не требовались ни коммунисты, ни даже сталинисты. Сталинисты — это те, кто признают Сталина. А нужно было не признавать, а поклоняться.
— Если признаешь, значит, теоретически можешь и не признавать?
— Когда меня спрашивают: «По какой статье вас посадили?», я отвечаю: «Меня посадили не по статье, а по Салтыкову-Щедрину». По абзацу из «Истории одного города»: «Восхищение начальством! Что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным невосхищения! А отсюда до революции — один шаг!». Обыватель должен не восхищаться, а трепетать.
Я, конечно, слышал про сталинские перегибы, а тут и сам под них подпал. Но даже тогда я не протрезвел — ничего подобного.
— И ссылка не отрезвила?
— Нет. По моей тогдашней психологии в связи с «диалектикой приятия». А отрезвился я потому, что вакханалия космополитизма проходила и в моем «цехе», в литературной среде, и всех ее действующих лиц я знал.
Например, того же Малова из Литинститута и Софронова, секретаря Союза писателей СССР. Они были для меня знаковыми фигурами. Находясь в ссылке, я пришел однажды в библиотеку почитать газеты. Увидел отчеты о писательских собраниях. И тут я задал себе вопрос: «А что же остается? Сплошной Софронов?». И все полетело, я освободился от сталинизма.
— А как вы узнали о смерти Сталина?
— В это время я жил в Караганде. Узнал, как все, по радио. С радостью я ее не принял — боялся, что станет еще хуже, чем было. Но все-таки я его уже ненавидел. У меня была такая строчка, она не вошла ни в один сборник: «Герострат революции — Сталин».
В марте 53-го я написал стихотворение «На смерть Сталина»:
В его поступкахЛжи так много было,А свет знаменИх так скрывал в дыму,Что сопоставить это всеНе в силах -Мы простоСлепо верили ему.
— А в «оттепель» стало полегче? Особенно когда вышла первая значительная подборка ваших стихов в «Тарусских страницах», а вслед за ней и первая книжка — «Годы»?
— На самом деле, только во времена Горбачева язык освободился от какого-то бредового флера. К Хрущеву же я относился без восторга. Большая благодарность ему за ХХ съезд и за то, что припечатал Сталина, а так... Он явно не был мыслителем.
«ИЗ КИЕВА ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ВЫРВАТЬСЯ В МОСКВУ — ДАВИЛО И ЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗДЕСЬ ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ»
— Как вы впервые вступили на тропу войны за собственное мнение? Кажется, эта тропа брала начало в Киеве?
— Была такая история. Директор киевской школы, где я тогда учился, Иван Федорович Головач был сложным человеком, до этого работал редактором какого-то журнала, но его оттуда турнули. Впрочем, и я не был подарком, имел репутацию возмутителя спокойствия.
Я регулярно ходил в очень хороший литкружок при редакции газеты «Юный пионер». Руководила им Ариадна Григорьевна Давиденко, будущий писатель-фантаст Ариадна Громова. Потом пошел в кружок при Дворце пионеров (мы его называли Палац), он находился в конце Крещатика, в бывшем Купеческом собрании.
Тогда я начал писать серьезные стихи. На школьном вечере читал что-то из написанного, и как раз в это время нелегкая занесла в зал Ивана Федоровича. Стихи не были антисоветскими, а что-то против мещанства. Но директор уловил в них крамолу и начал буквально преследовать меня. За какую-то ерунду, в которой я даже не был виноват, меня выгнали из школы.
Пришлось искать справедливость в обкоме комсомола. Он располагался на Крещатике в уютном особнячке, жаль, во время войны его взорвали. Мне помогла заведующая школьным отделом Зоя Федотова, миловидная молодая женщина. Не знаю, что сталось с ней потом, скорее всего, подалась в учительницы.
— Представьте, вы правы. Зоя Васильевна Федотова стала директором 38-й школы, где я училась.
— Вот как! В результате ее заступничества меня направили в городской отдел образования, а оттуда — в другую школу. За это время Иван Федорович Головач рассказал в газете «Сталинское племя», что я хулиган и плохой поэт.
Но я его простил. Тем более когда узнал, как во время оккупации Киева Иван Федорович был расстрелян немцами. Думаю, как все, — в Бабьем Яру.
— Наверное, до войны вы и не догадывались, что есть такое место — Бабий Яр.
— Впервые услышал в эвакуации, на Урале. Как-то отец прочитал в газете очерк о трагедии Бабьего Яра. Потом я узнал, что там погибли моя тетя и ее муж, они жили в нашей квартире на Владимирской, 97б. Туда же переехал и дядя, который раньше жил на Демеевке, а когда там высадился немецкий десант, перебрался в оставленную нами комнату. Он тоже лежит в Бабьем Яру.
Немцы вошли в Киев 19 сентября, расстрелы в Бабьем Яру начались 29-го. Эти 10 дней мои родные жили под властью дворника Митрофана Кудрицкого. Допускаю, что после тех измывательств, которые он им устроил, свою гибель они восприняли как освобождение.
Гестапо арестовало и расстреляло и моего друга поэта Якова Гальперина. До войны он был в одной компании с Семеном Гудзенко и другими хорошими ребятами. Наверное, его тоже свезли в Бабий Яр.
— Я питомец киевского ветра,
Младший из компании ребят,
Кто теперь на сотни километров
В одиночку под землей лежат.
Многим киевлянам лестно, что вы наш земляк.
— И все-таки из Киева мне очень хотелось вырваться в Москву, на широкую площадь. Давило и знание того, что произошло здесь во время оккупации.
«В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА СТОЯЛ СТОЛИК, А НА НЕМ ПОД СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ — СКЕЛЕТ РЕБЕНКА»
— В Киеве вас заметил Николай Асеев, которого после смерти Маяковского выдвигали, если можно так сказать, на роль первого поэта страны. А как вы познакомились?
— Николай Николаевич был футуристом, и я в детстве тоже был футуристом, хотя не по стихам, а по поведению: мне нравилось «скандалить», я, например, мог встать и задать какому-нибудь докладчику резкий вопрос.
Асеев приехал в Киев с выступлениями. Конечно, я не мог пропустить возможности показать ему свои стихи и отправился в гостиницу. Он велел переписать два моих стихотворения и увез их с собой. Потом на семинаре в Литинституте, где он преподавал, Асеев прочел эти стихи студентам. Так что, когда я приехал в Москву и, сначала не планируя поступать в Литинститут, просто так зашел туда и в коридоре разговорился с ребятами, они мне сказали: «А мы твои стихи знаем».
Точно так же я встретился в Киеве с Иосифом Уткиным. Из гостиницы мы с ним вышли прогуляться. Он спросил, как пройти куда-то. Я говорю: «Можно тудой, а можно сюдой». Он поправил: «Можно так, а можно так». А Владимир Жаботинский писал, что «тудой-сюдой» более выразительно.
Из книги Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии».
«В год смерти Сталина, весенним днем, передо мной в литинститутском коридоре внезапно выросла Легенда. Странно, но она была небольшого роста. Несмотря на только что отбытую ссылку, человек-Легенда был вовсе не исхудавший, а с довольно пухлыми щечками, с озорными, так и брызжущими любопытством неуемными глазами, готовыми выбить напором энергии стекла очков из дешевенькой железной оправы... Ну а его стихи я во множестве знал наизусть, хотя они тогда еще не были нигде напечатаны. Да разве я один...».
— И вот вы — в Москве. Новая жизнь, интересные знакомства.
— Одно из них — с Сергеем Эйзенштейном — я воспринимал вообще как феерическое. Я и мой друг Максим Калиновский оказались на дне рождения одной из его студенток по ВГИКу. Создатель «Броненосца Потемкина» запросто сидел в кресле в окружении влюбленных в него учеников, много шутил.
Мы с Максимом напросились к нему в гости. Он жил один в большой квартире, стены были увешаны фотографиями. В одной из комнат Эйзенштейна стоял небольшой столик, а на нем под стеклянным колпаком — скелет ребенка.
— Это были останки его трехлетнего сына?
— Точно не помню, кажется. Меня это, конечно, удивило, я не привык рассматривать скелеты. Сергей Михайлович был странным человеком, но ничего. А потом произошел очень неприятный для меня эпизод. У него там была какая-то гладкая палочка, я стал ее вертеть и сломал. Оказалось, что это дирижерская палочка. Я был неграмотный и дирижерских палочек до этого никогда не видел, вот и отнесся к ней без пиетета.
— И за это Эйзенштейн не выгнал вас из дома?
— И даже не стал плохо относиться. Но, конечно, ужасно огорчился, эта палочка была ему чем-то очень дорога. И потом при встречах всегда напоминал мне о ней.
— Вы ведь и с Анной Ахматовой общались.
— Познакомился с ней в Москве у Ардовых. Иосиф Уткин рассказал Анне Андреевне, что есть такой Наум Коржавин, и дал мне ее телефон.
И вот я пришел в дом к Ардовым. Она открыла и спрашивает: «А вы меня такой себе представляли?». Я говорю: «Примерно такой, потому что видел ваше фото». Тогда она уже не отличалась особой стройностью, как в молодости, но по-прежнему была королевой. Я это сразу почувствовал и смотрел на нее снизу вверх. С Ахматовой, как ни странно, у меня были простые отношения. Я читал ей свои стихи, и она относилась к ним одобрительно.
А вот с Пастернаком отношения были сложные. Хотя и он к моим стихам отнесся неплохо.
— Вы встречались с Пастернаком и во время его травли?
— Да. Я не раз бывал у него в Переделкино. Жаль, не вел дневников, а то рассказал бы больше. Я же к нему и Ахматовой приходил не для мемуаров и не для интервью, а просто так.
— Не вели дневников? А как же вы написали два огромных тома воспоминаний?
— По памяти.
«ЭРЕНБУРГ МЕНЯ БЛАГОСЛОВИЛ — В ОТНОШЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ ОН БЫЛ АБСОЛЮТНО ЧЕСТЕН»
— На похоронах Пастернака были? Мало кто из коллег отважился отдать великому поэту последний долг.
— Вместе с историком Монгайтом мы приехали на машине. Встретили Булата Окуджаву. Прошли переулочком, вышли на дорогу возле Дома творчества. Смотрю: Винокуров стоит. Я его окликнул: «Женя! Ты в Доме творчества отдыхаешь?». Так, с поддевкой. А он: «Да, отдыхаю, вышел подышать». Потом подошел ко мне и говорит: «Понимаешь, из секции никого нету. Межиров был, где-то ходит». Женя Винокуров был человеком осторожным, но очень порядочным. А Ваншенкин, которому он позвонил, сказал, что не может приехать — «пишет сейчас».
Из книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
«Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя».
— Николай Асеев вас заметил, а Илья Эренбург благословил.
— Да, верно, Эренбург меня благословил. Познакомился я с ним в Киеве точно так же, как с Асеевым и Уткиным. Илья Григорьевич только-только вернулся в Россию из Франции и стал выступать с литературными вечерами в разных городах. Буквально за несколько месяцев до войны он заехал в Киев.
Наш литкружок не мог упустить такой возможности — пообщаться со знаменитым писателем. Я и Ариадна Григорьевна Давиденко пошли к нему в гостиницу. Постучались в номер, он открыл, и первое, что мне бросилось в глаза, — его костюм из какой-то удивительной, мохнатой ткани. На меня она произвела колоссальное впечатление, и я больше ничего не видел.
Он сказал, что у него нет времени на посещение нашего литкружка (и так оно и было), и мы ушли ни с чем. Я страшно огорчился: «Что же это я ходил, как дурак, и ничего!». Ариадна Григорьевна посоветовала: «Вернитесь и скажите, что вы застеснялись и забыли почитать свои стихи». Я так и сделал. Мое стихотворение Илье Григорьевичу понравилось. И когда я был на его вечере, он подошел ко мне на глазах у всей публики и сказал что-то хорошее.
— Можно себе представить, что это значило для мальчишки в 15 лет.
— Так много, что когда в эвакуации я стал готовиться к службе в армии и задумал работать военным корреспондентом, то рассчитывал на помощь Эренбурга. Я был уверен, что он меня помнит. А что меня можно не помнить, я представить себе не мог. Но он вспомнил меня, когда после ссылки я приехал в Москву, и очень тепло принял.
— И помог восстановиться в Литинституте.
— Это было непросто: меня очень не хотели восстанавливать. Долматовский (лауреат Сталинской премии, член приемной комиссии Литинститута. - Авт.) написал «нужную» рецензию, чтобы меня не принимали.
— Неужели и после смерти Сталина Евгений Долматовский, сын репрессированного, продолжал бояться?
— Он был конформистом и плохо относился к людям, которые конформистами не были. Правда, со временем он даже пытался со мной разговаривать, заигрывал. Но это было потом. А тогда Эренбург написал Долматовскому: «Вы как неталантливый человек должны были бы поддерживать талантливых, а вы...».
Конечно, Илья Григорьевич понимал, где живет. Ведь почти всех, кто был с ним рядом, посадили. Я даже не могу перечислить. Он писал, будто выиграл в лотерею. А в отношении литературы Эренбург был абсолютно честен — старался защитить литераторов, поддерживал многих опальных поэтов и писателей.
— Говоря о вас, многие вспоминают прежде всего «самиздатскую» «Балладу об историческом недосыпе» — «Памяти Герцена»: «Но декабристы разбудили Герцена. Он недоспал, отсюда все пошло». В те времена она могла стоить вам тюрьмы или психушки.
— Не-а. Получилась такая шутка, и я был доволен: люди смеялись, и я тоже. И власти тогда ко мне не применили никаких экзекуций. Я никогда не считал свои стихи смелыми, не причислял себя к диссидентам.
— А как же ваша подпись под письмами в защиту диссидентов Галанскова и Гинзбурга, Синявского и Даниэля, подпольный самиздат?
— В самиздате не печатался. А просто, если люди хотели читать мои стихи, переписывали их, это и был самиздат. Письма подписывал, если считал их верными. Но меня не увлекала диссидентская деятельность. Я поэт и не мог все время отслеживать, что говорит и делает власть. Я отношу себя не к шестидесятникам, а к предвоенному поколению.
— Но власть считала вас диссидентом. Вы же много лет писали, что называется, в стол.
— Но я это так не воспринимал. Я читал друзьям, всем, кому мог.
— На что жили?
— В ссылке деньгами помогали родители. В Караганде я работал, пытался даже сапожником, но из этого ничего не вышло, писал всякие дежурные стихи... Много на этом не заработаешь, но на жизнь хватало.
А когда приехал в Москву, в отделе поэзии народов СССР при издательстве «Советский писатель» мне предложили заняться переводами. Я плохо понимал, что это такое, но со временем разобрался и стал более-менее жить. Потом меня познакомили с Кайсыном Кулиевым, мы подружились, я его много переводил.
— Ходили слухи, что московские поэты делают имя бездарным авторам, живущим в республиках ради оправдания лозунга о дружбе народов СССР.
— Что ж, случалось, что и я какую-то абракадабру доводил до среднего уровня. Жить-то надо было. Но Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова никто из переводчиков не «сделал». Они были большими поэтами.
— Если все было не так уж плохо — заработок, признание, то что вас заставило покинуть СССР?
— Был я как-то в Доме творчества, приехал в Москву — смотрю: вызов в прокуратуру. Явился. Стали допрашивать — ни о чем, а так, в основном о том, что я читаю. Я жутко разозлился. Я уже тогда был довольно известным поэтом, и тут получается — могут вызывать, допрашивать.
— Думаете, хотели завести на вас дело?
— Теперь я так не думаю. Но тогда меня прежде всего возмутила сама возможность допроса. Все-таки существовало что-то такое, из чего я писал. И хорошо писал.
— Жалеете, что уехали?
— Жалею. Уехал сдуру. Мне лучше было бы жить и умереть в России.
— А как вам в годы эмиграции работалось в знаменитом журнале «Континент»? Вы там были членом редколлегии? Или это номинальная должность?
— Очерченных обязанностей у меня не было. Я мог по совету главного редактора и моего друга еще с Москвы Максимова что-нибудь написать.
«Я СКАЗАЛ ВИКЕ НЕКРАСОВУ: «ВЫ, ДВОРЯНЕ, ПРОСРАЛИ РОССИЮ»
— В «Континенте» у вас вышло немало статей, в том числе полемических. В частности, о Бродском написали нелицеприятно...
— Я писал не о Бродском, а о культе Бродского. Некоторые его стихи считаю очень талантливыми. Но культ Бродского плохо повлиял на развитие поэзии. Появилась такая страсть к гениальности. Вместо того чтобы быть самими собой, люди стали «гениальными». И Бродский открыл эту дорогу.
— А как вам работалось с Виктором Некрасовым? Он же был замом главного редактора «Континента»?
— Я знал его не как заместителя главного редактора, а как Вику Некрасова. Как ни странно, я познакомился с ним не в Киеве, а в Москве у моих друзей. Потом уже и в Киеве мы встречались.
Он был хорошим человеком, иногда немного легкомысленным. Вот киевский пример. К его жене приезжала какая-то знакомая из Днепропетровска. А мы при ней говорили все, что угодно. Потом я стал замечать, что то одно, то другое из наших разговоров всплывает где не надо. А Вика лишь отмахивался. Тогда я сказал ему: «Вы, дворяне, просрали Россию». Он рассмеялся.
Потом я встречался с ним в Париже, в Америке. Он ничуть не изменился. Остался таким же легкомысленным, как и был.
— Ваше стихотворение «Дети в Освенциме» невозможно читать без слез:
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
Кажется, ваша супруга Любовь Семеновна именно после этих стихов решила связать с вами свою судьбу. Сколько лет вы вместе?
— Дайте посчитаю... Любочка (жене), сколько лет мы вместе? (После подсказки) ...С 65-го года. Люба, расскажи, как мы познакомились.
Любовь Семеновна:— Я работала в Кишиневе в республиканской библиотеке. Однажды меня вызвал директор и сказал, что в рамках Декады русской литературы в Молдавии к нам приезжает группа писателей и нужно устроить 10 встреч с читателями. Я рассердилась и сказала, что у меня план выполнен. Но он настаивал: «Есть такое большевистское слово «надо». Когда я узнала, что будет и Коржавин, немного смягчилась. Я уже читала его произведения в журналах «Юность», «Новый мир», в «Тарусских страницах». Это было очень большим событием в литературной жизни.
И вот я увидела такого человека, ну, невысокого, уже склонного к полноте и с лысиной, но совершенно очаровательного. Это и был Наум Моисеевич. Читатели принимали Коржавина на ура. А когда на одном из вечеров я услышала стихотворение «Мужчины мучили детей», то долго ходила под большим впечатлением. К концу декады все было решено.
— Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год -
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
А кони все скачут и скачут.
А избы горят и горят.
Наум Моисеевич, у вас есть дети, внуки?
— Дочь Лена от первого брака, еще карагандинского. Есть и внуки — Наташа и Гриша. Все живут здесь, в Америке. Наташе — 24 года, Грише — 20. Внучка окончила медицинскую школу и теперь должна специализироваться как врач, а внук заканчивает престижное учебное заведение в Калифорнии, будет программистом.
— Сейчас что-нибудь пишете?
— Ничего не пишу, я болен, да и не вижу ничего.
— Но многим бы вашу прозорливость. Свои мемуары вы назвали «В соблазнах кровавой эпохи». У вас есть предчувствие того, каким будет нынешний век?
— Я его очень боюсь. Существует опасность крушения цивилизации. Люди добились каких-то прав и свобод, но далеко не всегда знают, что с ними делать, и часто направляют их на разрушение. Вот как теперь благодаря свободе слова публикуется секретная переписка. Все свободы хороши, когда у людей есть внутренние ограничители, а когда их нет, то все пропадает. В цивилизованные страны приезжают исламисты и требуют свобод. Но их свобода — это удушение нашей цивилизации.
— И нет надежды? Как в одном из ваших последних по времени произведений «Последний язычник»:
Как хотелось мне жить, хоть о жизни давно отгрустили,
Как я смысла искал, как я верил в людей до поры...
Я последний язычник среди христиан Византии,
Я отнюдь не последний, кто видит, как гибнут миры.
— Единственная надежда на работу. Разум восторжествует, если люди будут для этого стараться. Я оптимист, но мой оптимизм небезоблачный. Я считаю, что если стараться взбивать масло, то оно, скорее всего, взобьется. Работать надо.
Любовь Хазан Бульвар Гордона

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Молитва за Израиль.
Всеволод Емелин-русский поэт
Всеволод Емелин - это своего рода Веничка Ерофеев многообразной в
своих проявлениях великой русской поэзии.
Родился в Москве в 1959 году.
Закончил Московский институт геодезии и картографии.
Работал геодезистом, разнорабочим на стройке, сторожом в московском
храме Косьмы и Дамиана.
Стихи, собранные в один цикл друзьями, практически нигде не печатались.
Правда была маленькая публикация в альманахе "Поэзия" и еще одна
в екатеринбургском журнале "Мы и культура сегодня".
А поэт он замечательный, да вы и сами в этом убедились. А слышали бы
вы, как он читает свои стихи - сколько в этом чтении то истинного
трагизма, то чисто русского юмора, короче истинной поэзии...
Вообще в данном случае все написанное Емелиным не стилизация, а самая
что ни на есть настоящая жизнь -
Исход
Поцелуи, объятья.
Боли не побороть.
До свидания, братья,
Да хранит вас Господь.
До свиданья, евреи,
До свиданья, друзья.
Ах, насколько беднее
Остаюсь без вас я.
До свиданья, родные,
Я вас очень любил.
До свиданья, Россия, -
Та, в которой я жил.
Сколько окон потухло,
Но остались, увы,
Опустевшие кухни
Одичавшей Москвы.
Вроде Бабьего Яра,
Вроде Крымского рва,
Душу мне разорвало
Шереметьево-два.
Что нас ждёт, я не знаю.
В православной тоске
Я молюсь за Израиль
На своём языке.
Сохрани ты их дело
И врагам не предай,
Богородице Дево
И святой Николай.
Да не дрогнет ограда,
Да ни газ, ни чума,
Ни иракские СКАДы
Их не тронут дома.
Защити эту землю,
Превращённую в сад.
Адонай элохейну.
Адонаи эхад.
Всеволод Емелин-русский поэт
Всеволод Емелин - это своего рода Веничка Ерофеев многообразной в
своих проявлениях великой русской поэзии.
Родился в Москве в 1959 году.
Закончил Московский институт геодезии и картографии.
Работал геодезистом, разнорабочим на стройке, сторожом в московском
храме Косьмы и Дамиана.
Стихи, собранные в один цикл друзьями, практически нигде не печатались.
Правда была маленькая публикация в альманахе "Поэзия" и еще одна
в екатеринбургском журнале "Мы и культура сегодня".
А поэт он замечательный, да вы и сами в этом убедились. А слышали бы
вы, как он читает свои стихи - сколько в этом чтении то истинного
трагизма, то чисто русского юмора, короче истинной поэзии...
Вообще в данном случае все написанное Емелиным не стилизация, а самая
что ни на есть настоящая жизнь -
Исход
Поцелуи, объятья.
Боли не побороть.
До свидания, братья,
Да хранит вас Господь.
До свиданья, евреи,
До свиданья, друзья.
Ах, насколько беднее
Остаюсь без вас я.
До свиданья, родные,
Я вас очень любил.
До свиданья, Россия, -
Та, в которой я жил.
Сколько окон потухло,
Но остались, увы,
Опустевшие кухни
Одичавшей Москвы.
Вроде Бабьего Яра,
Вроде Крымского рва,
Душу мне разорвало
Шереметьево-два.
Что нас ждёт, я не знаю.
В православной тоске
Я молюсь за Израиль
На своём языке.
Сохрани ты их дело
И врагам не предай,
Богородице Дево
И святой Николай.
Да не дрогнет ограда,
Да ни газ, ни чума,
Ни иракские СКАДы
Их не тронут дома.
Защити эту землю,
Превращённую в сад.
Адонай элохейну.
Адонаи эхад.
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Любеые тeатральные постановки на экране вашего компютера!
Смотрите и наслаждайтесь!
http://spektaklionlayn.narod.ru/
Смотрите и наслаждайтесь!
http://spektaklionlayn.narod.ru/

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
CПАСИБО, Ким! :)

Лилия- Академик
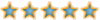
- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Дзержинского, 42 (напротив милиции)
Район проживания : Дзержинского, 42 (напротив милиции)
Дата регистрации : 2008-03-18 Количество сообщений : 313
Репутация : 167

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Повтор от 17.02 "Молодые таланты"

Lubov Krepis- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 70

Страна : Район проживания : Садовая 10
Район проживания : Садовая 10
Место учёбы, работы. : Школа 2. Школа 13
Дата регистрации : 2008-02-11 Количество сообщений : 2025
Репутация : 1480

Borys- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 77

Страна : Город : Оберхаузен
Город : Оберхаузен
Район проживания : Центральная поликлиника
Место учёбы, работы. : Школа №9, маштехникум, завод Комсомолец
Дата регистрации : 2010-02-24 Количество сообщений : 2763
Репутация : 2977

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417

Kim- Администратор

- Возраст : 67

Страна : Район проживания : K-libknehta
Район проживания : K-libknehta
Дата регистрации : 2008-01-24 Количество сообщений : 5602
Репутация : 4417
 Re: Поэтические и музыкальные встречи
Re: Поэтические и музыкальные встречи
Варвара Васильевна Панина -
звезда романса и цыганской песни

В Москве, у станции метро «Сокол», в небольшой, но очень уютной квартире частенько собираются гости. За большим столом, заставленным домашней выпечкой, места хватает для всех. Гости и хозяева дома рассаживаются, в большие чашки разливается крепкий «цыганский» чай. И начинается неспешная беседа. Основная тема, как правило, касается жизни знаменитой Вари Паниной. И это неудивительно, ведь хозяева дома — единственные прямые потомки легендарной певицы.
Варвара Васильевна Панина, в девичестве Васильева, цыганка по происхождению, родилась в 1872 году. Родители её занимались торговлей, артистов в семье не было. И хотя умение петь и танцевать у цыган, что называется, в крови, и удивить этими талантами кого-то из них сложно, Варя Панина с самого раннего детства поражала своей страстностью в пении и необыкновенно красивым, сильным голосом. Ей было 14 лет, когда она начала петь в хоре ресторана «орана «Стрельн в то время руководила цыганская певица Александра Ивановна Панина; затем, выйдя замуж за племянника Александры Паниной, мещанина города Коломны Московской губернии Фёдора Артемьевича Панина (а не хориста, как писали в некоторых «воспоминаниях»), она перешла в «Яр» уже в качестве хозяйки хора. Послушать ставшую к тому времени известной певицу считали своим долгом знатоки-меломаны. Слава о московской звезде пошла по всей России.

Низкое грудное контральто, своеобразная манера исполнения, сочетание совершенно не женского по тембру голоса с чисто женскими интонациями, способность передавать глубину переживаний человеческой души, заставлять страдать для того чтобы очиститься, восхищали. Её пение привлекало самые широкие круги общества того времени: купечество, аристократию, художественную интеллигенцию.
Она была истинной звездой конца XIX — начала XX веков, ею восторгались А.А. Блок, Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, А.П.Чехов. Фёдор Шаляпин часто приходил послушать цыганку Варю и был в восторге от её пения.
В начале XX века Панина начала выступать с сольными концертами в лучших залах Москвы, Петербурга и российской провинции, где имела огромный успех. Сценический образ Вари Паниной был продуманно скромен, ничто не должно было отвлекать от её пения: просто одетая, никаких модных причёсок, минимум косметики, минимум украшений.
Она выходила к публике не спеша, чуть кланялась, располагалась в стоящем на сцене кресле, закуривала. (Папиросы у неё были толстые-претолстые, назывались они «Пушка», и курила она беспрерывно). Постоянные аккомпаниаторы знаменитой цыганки — гитаристы К.Васильев, Н.Шишкин и иногда модный в те годы исполнитель на цитре Ганс — терпеливо ожидали сигнала. Чуть заметный кивок, первые аккорды гитары — и... Зал замирал. Начиналось волшебство, гениальная певица раскрывала душу, вовлекала зрителей в великую тайну романса. Взволнованная публика рукоплескала, случались и обмороки, а после концерта к гримерной бывало не пробиться сквозь толпу молодёжи, которая осыпала певицу цветами. Случались и казусы. Дочь Вари Паниной, Елена, рассказывала своим домашним, что много раз знаменитая певица возвращалась с концертов в разорванном платье — это поклонники окружали её со всех сторон и, пользуясь, образовавшейся давкой, отрывали от концертных нарядов кусочки «на память».
Сохранились воспоминания о знаменитом концерте, состоявшемся в марте 1906 года в Мариинском театре. На концерте присутствовали Его Высочество Николай Александрович с семьёй. После концерта император прошёл за кулисы и, поздравив певицу, поинтересовался, почему в его коллекции нет грампластинок со звукозаписями Паниной. Представители общества «Граммофон» немедленно принялись записывать певицу. Спустя три месяца Николаю II был подарен красивый альбом с записями Вари Паниной на 20 миньонах.

Через четыре года, тоже в марте, на единственный концерт, данный Варей Паниной в Дворянском собрании, «попасть было так же трудно, как на парадный спектакль в честь французских гостей». Выступали два кумира — в первом отделении пела «несравненная» Анастасия Вяльцева, «певица радостей жизни», во втором - «божественная» Варвара Панина, «певица роковых страстей и глубокой печали». В семье Паниных хранится программа этого концерта, около фамилии Паниной - три точки, что означало: певица будет петь исключительно по заказу, заранее репертуар не указывался. Публика неистовствовала. Концерт удалось завершить только около двух часов ночи, после вмешательства полиции.
После того концерта Варе Паниной оставалось жить ещё чуть больше года.
10 июня 1911 года, после концерта, певица вошла в свою гримёрную, села в кресло, как обычно, закурила, и вдруг её так много страдавшее сердце перестало биться. Варя Панина умерла, когда ей не исполнилось и 39 лет.
В последний путь певицу провожали тысячи москвичей. Кроме многочисленных поклонников, на похоронах присутствовали представители высшего чиновничества, элита артистического и театрального мира, титулованные особы, столичные аристократы. Гроб некоронованной царицы русского и цыганского романса утопал в цветах и венках. Похоронили Варю Панину на Ваганьковском кладбище.
Она пережила смерть самых близких людей — сначала мужа, затем матери и брата. Сиротами остались пятеро её детей — три сына: Константин, Владимир, Егор и две дочери: Елена и Тамара. Егор и Тамара скончались молодыми. Только у Елены были дети, Владимир и Борис.

Дочери Варвары Васильевны Паниной: вторая слева - Тамара, крайняя справа - Елена
Елена Фёдоровна вышла замуж за командира первой императорской автомобильной роты Владимира Сергеевича Воронова. На протяжении всей своей жизни она являлась хранительницей семейного архива, документов, фотографий, всего, что связано с именем Вари Паниной, и всё это бережно передаётся из поколения в поколение. В доме потомков великой певицы на почётном, специально отведенном месте стоит уникальная игрушка — метровый негр, сидящий на лавочке и играющий на гармошке. Игрушка эта — подарок Вари Паниной дочери Елене, и хотя негр уже давно пережил вековой юбилей, и его гармошка потерялась, он продолжает играть мелодию, которую слушала легендарная Варя Панина. Механизм работает чётко, кажется, время не властно над ним. Этот человечек — свидетель удивительных событий, которые ушли в далёкое прошлое. Он знает, какой была на самом деле Варя Панина. Многие мемуаристы и авторы современных публикаций неоднократно подчеркивают её якобы мужские привычки, жесты, грубоватую манеру поведения.
А вот дочь Елена часто вспоминала, что Варя была очень мягкой, женственной. Внешняя же грубость — это всё легенды или выдумки журналистов. А может, Варя Панина специально создавала такой образ, чтобы защитить свой мир от посторонних любопытных глаз, потому что была легкоранимой, остро чувствующей и очень уязвимой, хрупкой женщиной, и была на людях настоящей только тогда, когда пела?.. Ведь она сама говорила: «Я живу только тогда, когда пою».
Кто знает? На эти вопросы уже, к сожалению, нет ответов. Память размывается туманом времени. Но, к счастью, есть замечательная квартира на «Соколе», где хранится множество фотографий и других «милых сердцу» мелочей, которые так или иначе рассказывают о жизни певицы, есть устные воспоминания. И, конечно, есть записи романсов в исполнении Вари Паниной. И мы имеем счастье слушать ее голос и в нынешнем, XXI веке, прикасаться к чуду прошлого века, чуду, которым, безусловно, была знаменитая цыганская певица Варвара Васильевна Панина.

звезда романса и цыганской песни

В Москве, у станции метро «Сокол», в небольшой, но очень уютной квартире частенько собираются гости. За большим столом, заставленным домашней выпечкой, места хватает для всех. Гости и хозяева дома рассаживаются, в большие чашки разливается крепкий «цыганский» чай. И начинается неспешная беседа. Основная тема, как правило, касается жизни знаменитой Вари Паниной. И это неудивительно, ведь хозяева дома — единственные прямые потомки легендарной певицы.
Варвара Васильевна Панина, в девичестве Васильева, цыганка по происхождению, родилась в 1872 году. Родители её занимались торговлей, артистов в семье не было. И хотя умение петь и танцевать у цыган, что называется, в крови, и удивить этими талантами кого-то из них сложно, Варя Панина с самого раннего детства поражала своей страстностью в пении и необыкновенно красивым, сильным голосом. Ей было 14 лет, когда она начала петь в хоре ресторана «орана «Стрельн в то время руководила цыганская певица Александра Ивановна Панина; затем, выйдя замуж за племянника Александры Паниной, мещанина города Коломны Московской губернии Фёдора Артемьевича Панина (а не хориста, как писали в некоторых «воспоминаниях»), она перешла в «Яр» уже в качестве хозяйки хора. Послушать ставшую к тому времени известной певицу считали своим долгом знатоки-меломаны. Слава о московской звезде пошла по всей России.

Низкое грудное контральто, своеобразная манера исполнения, сочетание совершенно не женского по тембру голоса с чисто женскими интонациями, способность передавать глубину переживаний человеческой души, заставлять страдать для того чтобы очиститься, восхищали. Её пение привлекало самые широкие круги общества того времени: купечество, аристократию, художественную интеллигенцию.
Она была истинной звездой конца XIX — начала XX веков, ею восторгались А.А. Блок, Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, А.П.Чехов. Фёдор Шаляпин часто приходил послушать цыганку Варю и был в восторге от её пения.
В начале XX века Панина начала выступать с сольными концертами в лучших залах Москвы, Петербурга и российской провинции, где имела огромный успех. Сценический образ Вари Паниной был продуманно скромен, ничто не должно было отвлекать от её пения: просто одетая, никаких модных причёсок, минимум косметики, минимум украшений.
Она выходила к публике не спеша, чуть кланялась, располагалась в стоящем на сцене кресле, закуривала. (Папиросы у неё были толстые-претолстые, назывались они «Пушка», и курила она беспрерывно). Постоянные аккомпаниаторы знаменитой цыганки — гитаристы К.Васильев, Н.Шишкин и иногда модный в те годы исполнитель на цитре Ганс — терпеливо ожидали сигнала. Чуть заметный кивок, первые аккорды гитары — и... Зал замирал. Начиналось волшебство, гениальная певица раскрывала душу, вовлекала зрителей в великую тайну романса. Взволнованная публика рукоплескала, случались и обмороки, а после концерта к гримерной бывало не пробиться сквозь толпу молодёжи, которая осыпала певицу цветами. Случались и казусы. Дочь Вари Паниной, Елена, рассказывала своим домашним, что много раз знаменитая певица возвращалась с концертов в разорванном платье — это поклонники окружали её со всех сторон и, пользуясь, образовавшейся давкой, отрывали от концертных нарядов кусочки «на память».
Сохранились воспоминания о знаменитом концерте, состоявшемся в марте 1906 года в Мариинском театре. На концерте присутствовали Его Высочество Николай Александрович с семьёй. После концерта император прошёл за кулисы и, поздравив певицу, поинтересовался, почему в его коллекции нет грампластинок со звукозаписями Паниной. Представители общества «Граммофон» немедленно принялись записывать певицу. Спустя три месяца Николаю II был подарен красивый альбом с записями Вари Паниной на 20 миньонах.

Через четыре года, тоже в марте, на единственный концерт, данный Варей Паниной в Дворянском собрании, «попасть было так же трудно, как на парадный спектакль в честь французских гостей». Выступали два кумира — в первом отделении пела «несравненная» Анастасия Вяльцева, «певица радостей жизни», во втором - «божественная» Варвара Панина, «певица роковых страстей и глубокой печали». В семье Паниных хранится программа этого концерта, около фамилии Паниной - три точки, что означало: певица будет петь исключительно по заказу, заранее репертуар не указывался. Публика неистовствовала. Концерт удалось завершить только около двух часов ночи, после вмешательства полиции.
После того концерта Варе Паниной оставалось жить ещё чуть больше года.
10 июня 1911 года, после концерта, певица вошла в свою гримёрную, села в кресло, как обычно, закурила, и вдруг её так много страдавшее сердце перестало биться. Варя Панина умерла, когда ей не исполнилось и 39 лет.
В последний путь певицу провожали тысячи москвичей. Кроме многочисленных поклонников, на похоронах присутствовали представители высшего чиновничества, элита артистического и театрального мира, титулованные особы, столичные аристократы. Гроб некоронованной царицы русского и цыганского романса утопал в цветах и венках. Похоронили Варю Панину на Ваганьковском кладбище.
Она пережила смерть самых близких людей — сначала мужа, затем матери и брата. Сиротами остались пятеро её детей — три сына: Константин, Владимир, Егор и две дочери: Елена и Тамара. Егор и Тамара скончались молодыми. Только у Елены были дети, Владимир и Борис.

Дочери Варвары Васильевны Паниной: вторая слева - Тамара, крайняя справа - Елена
Елена Фёдоровна вышла замуж за командира первой императорской автомобильной роты Владимира Сергеевича Воронова. На протяжении всей своей жизни она являлась хранительницей семейного архива, документов, фотографий, всего, что связано с именем Вари Паниной, и всё это бережно передаётся из поколения в поколение. В доме потомков великой певицы на почётном, специально отведенном месте стоит уникальная игрушка — метровый негр, сидящий на лавочке и играющий на гармошке. Игрушка эта — подарок Вари Паниной дочери Елене, и хотя негр уже давно пережил вековой юбилей, и его гармошка потерялась, он продолжает играть мелодию, которую слушала легендарная Варя Панина. Механизм работает чётко, кажется, время не властно над ним. Этот человечек — свидетель удивительных событий, которые ушли в далёкое прошлое. Он знает, какой была на самом деле Варя Панина. Многие мемуаристы и авторы современных публикаций неоднократно подчеркивают её якобы мужские привычки, жесты, грубоватую манеру поведения.
А вот дочь Елена часто вспоминала, что Варя была очень мягкой, женственной. Внешняя же грубость — это всё легенды или выдумки журналистов. А может, Варя Панина специально создавала такой образ, чтобы защитить свой мир от посторонних любопытных глаз, потому что была легкоранимой, остро чувствующей и очень уязвимой, хрупкой женщиной, и была на людях настоящей только тогда, когда пела?.. Ведь она сама говорила: «Я живу только тогда, когда пою».
Кто знает? На эти вопросы уже, к сожалению, нет ответов. Память размывается туманом времени. Но, к счастью, есть замечательная квартира на «Соколе», где хранится множество фотографий и других «милых сердцу» мелочей, которые так или иначе рассказывают о жизни певицы, есть устные воспоминания. И, конечно, есть записи романсов в исполнении Вари Паниной. И мы имеем счастье слушать ее голос и в нынешнем, XXI веке, прикасаться к чуду прошлого века, чуду, которым, безусловно, была знаменитая цыганская певица Варвара Васильевна Панина.


Sem.V.- Почётный Бердичевлянин

- Возраст : 88

Страна : Город : г.Акко
Город : г.Акко
Район проживания : Ул. К.Либкнехта, Маяковского, Н.Ивановская, Сестер Сломницких
Место учёбы, работы. : ж/д школа, маштехникум, институт, з-д Прогресс
Дата регистрации : 2008-09-06 Количество сообщений : 666
Репутация : 695
Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4 
Страница 1 из 4
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
 Форум
Форум

» Мои воспоминания
» Ответы на непростой вопрос...
» Универсальный ответ
» Каких иногда выпускали инженеров.
» Спаситель еврейских детей
» Рондель Еля Шаєвич (Ізя-газировщик)
» О б ь я в л е н и е !
» И вдруг алкоголь подействовал!..
» Давно он так над собой не смеялся!
» Последователи и потомки Авраама
» Холокост - трагедия европейских евреев
» Выдающиеся люди
» Израиль и Израильтяне
» Глянь, кто идёт!